Хореограф Нурбек Батулла — о локальном театре, поисках и страхах
Национальный театр почти ни у кого не ассоциируется с экспериментами и перфомансами: как правило, местные режиссеры предпочитают классику, обходясь без смелых интерпретаций. Однако в прошлом году хореограф и балетмейстер из Казани Нурбек Батулла получил «Золотую маску» именно за участие в экспериментальной постановке «Алиф». Весь бюджет спектакля составил 47 тысяч рублей.
Enter поговорил с обладателем самой престижной театральной премии страны, хореографом ТГТЮЗ им. Г. Кариева Нурбеком Батуллой о татарском консерватизме, внутренних страхах и чрезмерном влиянии европейской культуры.

— В вашей семье есть легенда о том, как вы выбрали профессию: якобы в пять лет выбежали на сцену и начали танцевать. Откуда в вас эта хореографическая жилка, если ваш отец Рабит Батулла, режиссер, драматург и сценарист, не совсем связан с этой областью?
— Отец по первому образованию — актер, поэтому как человеку этой профессии, ему приходилось танцевать. Еще здесь сказывается семейный характер, наша психофизика — мы активные, импульсивные, «взрывные» люди.
— А при каких обстоятельствах и на какую сцену вы выбежали?
— Сейчас трудно сказать: возможно, это была филармония, а может и театр имени Г. Камала. Я даже не уверен, что действительно сам все помню, ведь родители часто рассказывали эту историю — воспоминание могло возникнуть таким образом. Нам лет десять назад присылали фотографию: там я маленький стою на сцене, а позади большой ансамбль, исполняющий крымско-татарский танец. Я влез в самую гущу, и родители испугались, что меня могут задавить — артисты очень активно плясали. Но все обошлось.
— Также вы говорили, что с самого начала карьеры хотели получить творческую независимость от славы отца. Удалось?
— Все-таки подобные вещи имеют особенно сильное влияние. И мне сложно оценить, хорошо это или плохо — я просто не знаю, как могло быть по-другому.
— Вы учились в Петербурге сначала на балетмейстера, а затем на актера театра и кино. Какое впечатление на вас произвел татарский театр после возвращения в Казань, когда уже есть с чем сравнивать?
— Я часто приезжал домой на каникулы будучи студентом. И тут довольно странная история: как-то я пошел на спектакль в театр Камала, и у меня возникло двоякое ощущение — с одной стороны, это совсем не то, чему нас учат и к чему уже начал привыкать мой глаз, а с другой — все происходящее цепляло. До сих пор не могу сказать правду, потому что сам не знаю — включается ли при просмотре спектакля сентиментальность, потому что все так мило и на родном татарском, или действительно на сцене творится какая-то магия.
Вижу, что местные артисты играют в плохом смысле — в нашей мастерской это слово было ругательством, нас учили не играть, а проживать. Но я же знакомство с театром начал именно с татарского, поэтому здесь, возможно, срабатывают психология и субъективное восприятие. В Казань я вернулся три года назад, и такая сентиментальщина во время визита в театр случается со мной все реже. Это как носить привычные шерстяные носки, грубо говоря.
— Но у вас возник какой-то резкий диссонанс, когда вы сравнивали как там и как здесь?
— Надо отметить, что в Казани татарские театры очень разные. Про некоторые театры Петербурга можно сказать «мертвые с точки зрения искусства» — там играют, а не существуют в роли. Статус культурной столицы еще ни о чем не говорит, но вместе с тем в Питере огромное количество классных трупп и творческих объединений — вот про них я расскажу. Первые мысли и ощущения после того, как увидишь их постановки: «Так нельзя делать! Что творят эти ребята на сцене?» Я просто никогда не видел такого: артисты кричали, как мне тогда казалось, на грани с патологией или радовались до неистовства.
Границы раздвинулись — в первое время с этим чувством нужно работать, задавать себе вопросы в духе «а почему мой внутренний цензор думает, что так нельзя? Меня цепляет? Да. Тогда почему я все еще отвергаю увиденное?» Я плачу, в следующую секунду смеюсь, а потом мысль о том, что так не делается понемногу уходит. Начинаешь прорабатывать ситуацию сам с собой. И все это вкупе с занятиями по истории театра — на самой первой паре педагог нам сказал: «Зрители правы, когда говорят, что вот эта постановка — не Чехов и не Шекспир. И они считают, что так играть “Три сестры” нельзя. Все правильно: это действительно не Островский и не Толстой, а Бутусов, Эренбург, Додин». То есть он сразу обозначил, что спектакль — это не драматург, а режиссер; и драматург — не про постановку, а про литературу. Если тебе нужен Чехов, то ты берешь его книгу с полки и читаешь без посредников, а если пришел на Бутусова, то прими его и тот факт, что он человек, живущий в XX или XXI веке. Исходя из этого, современный режиссер пропускает материал через себя и выдает в переосмысленном виде.
— Возможна ли у нас такая вольная интерпретация татарской классики? Все-таки национальный театр пока больше ассоциируется с консерватизмом.
— Если ты можешь сделать так, чтобы «Три сестры» начали существовать на сцене, как жили бы в XIX веке, и я буду в это верить, то пожалуйста. Или делаешь по-другому, но тебе по-прежнему верят — тоже хорошо. Главное в театре — энергия: если ее нет, то можно хоть сто раз ставить спектакль, не отступая от оригинала, а искры все равно не будет ни на сцене, ни в зале. В итоге не состоится никакой энергетический обмен. В нашем театре есть интерпретации, они появляются. Мне очень понравилась постановка Айдара Заббарова «Тормышмы бу?» («И это жизнь?»). Опять-таки включился сентиментальный момент, который проявлялся все реже, а вот Айдару удалось до него как-то достучаться. В визуальном плане спектакль сделан необычно. Хороший пример, когда классика по Гаязу Исхаки поставлена живо, ей веришь, постановка заставляет тебя думать, плакать, она еще долго живет в тебе. Для меня это показатель, а все остальное просто дело вкуса.

— Насколько наш зритель вообще готов к восприятию экспериментальных постановок в местных театрах?
— Я об этом даже не размышляю, потому что в противном случае становишься заложником иллюзий. Режиссеры из Санкт-Петербурга, о которых я говорил, своим искусством помогли мне преодолеть психологическую проблему. Может то, что я увидел и было для меня слишком смело, но они же не думали: «Приедет мальчик из Казани, который раньше видел лишь татарский театр и не поймет показанное». Если бы они опирались только на мнение зрителей, то ничего подобного не сделали.
Иногда мне кажется, что некоторые воспринимают отношение молодых режиссеров к зрителям как пренебрежительное, потому что своими экспериментами заставляют их поломать голову. Но все наоборот: мы, то есть те, кто хочет сделать все по-другому, больше верим в людей. Я жду, что они поймут. Пусть такие постановки и не станут кассовыми — ну и что? Может они и не должны быть таковыми, зато кто-то лет через пять поставит востребованный спектакль на основе тех находок, которые были не поняты сейчас. Тут каждый художник выбирает сам. То, что сделал Айдар, не совсем эксперимент, в принципе это просто хороший спектакль, но там найдена золотая середина между тем и другим. Лично я сторонник более радикальных решений, возможно, они мне пока и не удаются, но пробовать тоже важно. Здорово, что со спектакля «Тормышмы бу?» в театре Камала не встал и не ушел ни один зритель старше 45, а таких рядом со мной было много. Это большой показатель, победа.
— Получается, иногда своего зрителя надо воспитывать?
— Необходим выбор: пусть будут удачные экспериментальные постановки и неудачные, пусть существуют классические спектакли. Зритель сам выберет, что подходит именно ему. Пока получается, что мы выбираем за него и не даем вариативности — вот такой парадокс. Те, кто думают о зрителях, наоборот, лишают их свободы.
— Вы рассказывали о постановке 27-летнего режиссера Айдара Заббарова. Можно ли говорить, что сейчас в республике появилось поколение молодых татарских театралов?
— Пока получится небольшой список имен, но ничего страшного. Думаю, это только начало, и если не будет подножек со стороны власти, например, а все продолжится как началось, то волна будет нарастать. К ней можно смело отнести и Айдара, и Туфана Имамутдинова (режиссер постановки «Алиф», — прим. Enter), и еще, как ни странно, я бы добавил сюда якутского режиссера Сергея Потапова. Якуты те же самые тюрки, это наши корни, о которых все, кстати, забывают. Он там вырос и сохранил в себе и своем творчестве то, что мы потеряли. К тому же со стороны всегда виднее: мы живем здесь, в Татарстане, и находимся во власти иллюзий, потому что нам кажется — татарский театр хорош, а критики почему-то его не замечают. Но вот приходит сторонний человек вроде Сергея Потапова и говорит: «У вас ничего особенного не происходит, давайте по-другому попробуем».
— А как на самом деле?
— На самом деле проблема в нас — мы просто не очень смелые.
— Это черта народа — татарский консерватизм?
— И народа, и страны в целом. Российский театр по сравнению с европейским не особо ушел вперед. У нашего национального общие проблемы с театрами из столиц и регионов. Недавно я созванивался с режиссером из Питера и пытался в двух словах ему объяснить: «У российского актера 99 проблем, а у артиста с татарстанской пропиской — 101». Те же самые сложности, и к ним добавляются национальные и религиозные стереотипы: получается, плюс две проблемы, а не пятьсот — разница в итоге небольшая. Мы живем в одной стране, и вся повестка взаимосвязана: политическая ситуация, наши доходы. Я помню годы, когда в России у большинства была нормальная зарплата и это ощущалось — расслабились люди: чаще улыбались на улице, реже грубили в очередях в магазинах. Казалось бы такая ерунда — разница в несколько тысяч.
— Наверное, больше и в театр ходили?
— Думаю, да, это тоже взаимосвязано: если ты концы с концами не сводишь, то тебе точно не до театра. Нужно кредит закрыть, «бомбить», у тебя просто нет свободной энергии для чего-то другого. Речь и о зрителе, и об актере — мы одно и то же, просто называемся по-разному. У артистов в такие периоды остается чуть меньше сил на творчество.
— Получается, неправильно говорить будто театр в регионах отстает от столичных, скорее, в целом, российский отстает от мира? Чего нам не хватает?
— Российский театр и его ведущие современные режиссеры, Богомолов и Серебренников только начали смело интерпретировать классику, но и это уже прошлый этап для Европы. Там эпоха спектакля без драмы, его полное освобождение от сцены-коробки, литературной основы, музыки и даже актера. Всего того, что можно убрать. Европейцы создали множество театральных проектов без участия артистов. Такого в России очень мало: я даже не могу вспомнить ничего подобного. У нас есть хорошие примеры постановок не под софитами, спектакли-променады, перформансы и акции. Но все это уже было на Западе. Нам, татарским художникам, актерам, режиссерам, хореографам, не надо соревноваться с российским театром, нужно смотреть еще дальше. А может, наоборот, стоит взглянуть на то, что делают в Якутии. Я и сам не знаю, на кого необходимо ориентироваться: возможно, вообще ни на кого и лучше изобретать что-то свое неповторимое.
— Сделать акцент на национальной идентичности?
— Да, но по-другому: не так открыто и явно, как это происходит сейчас.
— Вы говорили про театр, не привязанный к сцене: наверное, речь об иммерсивных постановках. В Казани теперь есть пример — шоу «Анна Каренина». Но почему никто не делает подобные татарские проекты? Это же давно не что-то новое и уникальное.
— Тут много причин: лень, страх. Могу так ответить, ориентируясь на себя — я же не делаю иммерсивный спектакль, хотя и выхожу за рамки театра в своих танцевальных импровизациях. Мне нравится импровизировать на улице, например, но я занимаюсь этим в одиночку. Когда задаю себе вопрос: «Почему я не экспериментирую?», то сам понимаю — где-то боюсь, где-то не верю в свои силы.
— А что насчет остальных?
— Наверное, кто-то, как и я, тоже неосознанно боится делать новое. Я признаюсь — да, страшно, да, я не верю, что получится. Возможно есть режиссер, которому просто нравятся костюмы, приклеенная борода, текст, кулисы. Все это тоже имеет право на существование.
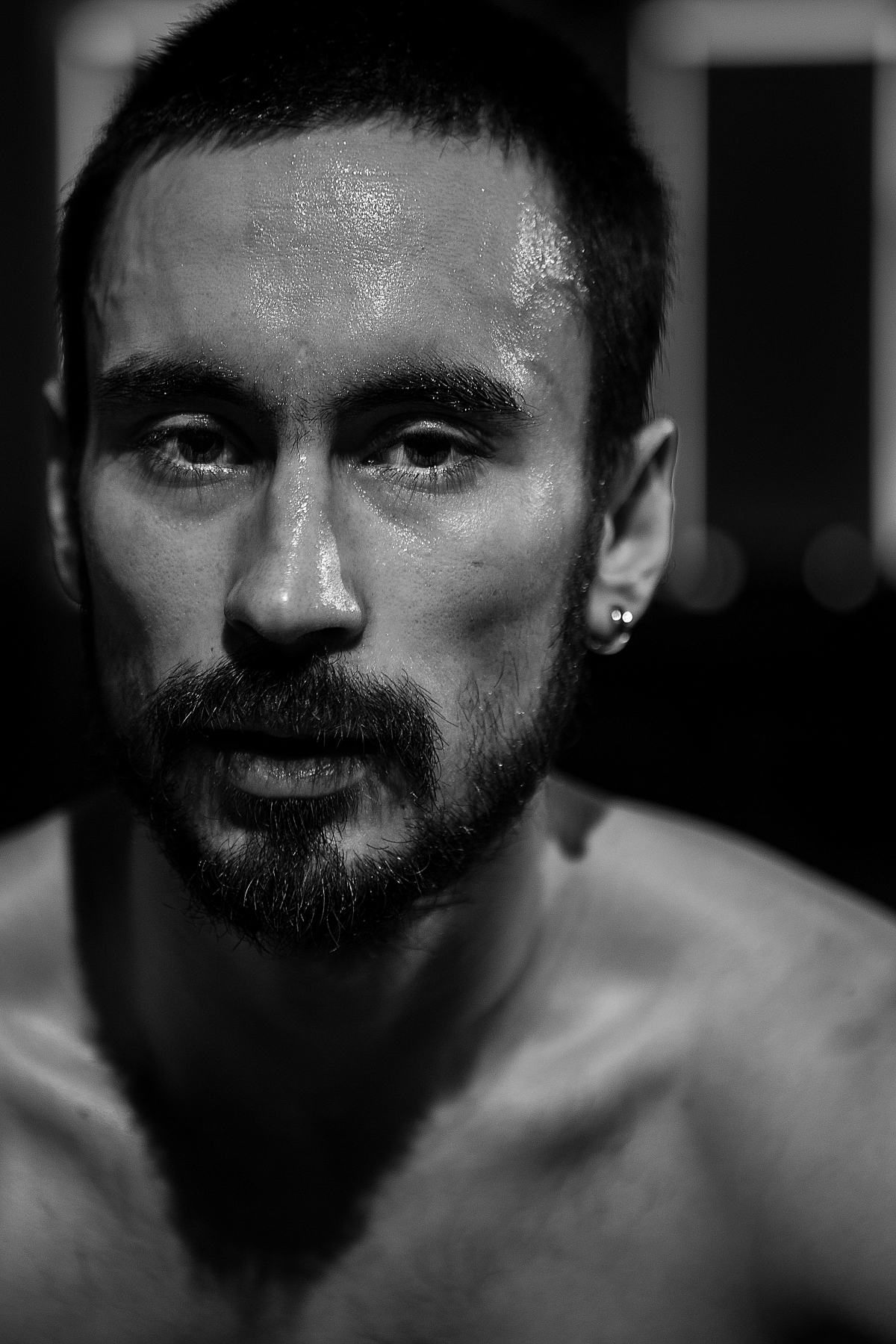
— Когда мы договаривались на интервью, я спросила, где вы обычно репетируете, на что получила ответ «где придется». С чем это связано? С отсутствием помещения?
— Такой момент тоже есть. Просто я занимаюсь и другими проектами, не связанными с театром имени Г. Кариева, поэтому для них приходится искать площадку. Иногда зал КАИ, если он свободен, или консерватория: туда мы просимся через нашего композитора. Периодически репетиции проходят в русском ТЮЗе, но такое бывает редко из-за их плотного графика.
— Я просто очень удивилась такому сообщению от человека, получившего главную театральную премию страны. Вам комфортно в этом режиме или просто пока нет нужной поддержки, чтобы появилась постоянная площадка для репетиций?
— И то, и другое. Отчасти дело снова в моих страхах: я думаю «а вдруг все станет хорошо и мы получим большую денежную поддержку, а у нас ничего не будет получаться». Такое же бывает. Мы (творческая команда спектакля «Алиф», — прим. Enter) делали проект «Шамаиль», и на него давали деньги, кажется, по гранту. Но мы думаем, что он у нас не получился, это не всегда подвластный процесс. А иногда есть все необходимое для реализации хорошей творческой идеи, кроме площадки под нее.
— Ваши проекты сейчас получают поддержку сверху?
— Нам нравится нынешний министр культуры Татарстана Ирада Хафизяновна — она похожа на открытого человека. Сказала, что мы можем обращаться при необходимости. Понятно, что со зданием и площадкой для репетиций вопрос быстро не решается, но с поездками на фестивали нам помогают. Мы ездили в Азербайджан, Париж и Санкт-Петербург с «Алифом», а дорогу оплатил Минкульт.
— Кстати, как воспринимают постановку люди из других городов и стран, все-таки «Алиф» связан с национальной тематикой? Понятен ли он им?
— Я не могу сказать точно, но мне кажется, что понятен. Если зритель не знает каких-то тонкостей о спектакле, которые касаются татарского алфавита и творчества Габдуллы Тукая, то там есть и другие интересные вещи. Например, композиционный, режиссерский, хореографический, музыкальный и исполнительский поиск, находки по решению пространства. Еще мы отказались от костюмов и драматургической основы: спектакль более-менее отвечает тенденциям, потому что поставлен на языке современного театра и рассказывает о том, что нас волнует. Наша мечта — доносить проблемы до людей, делая это с помощью актуальных художественных приемов.
— И, наверное, не в последнюю очередь важна энергетика, которая исходит от артиста.
— Для меня самое важное на сцене — артист, но это мое субъективное мнение. Может быть еще и потому, что у меня второе образование актерское. Есть вещи в концептуальном искусстве, которые мне нравятся как зрителю, но как артисту мне интереснее работать с чистой энергией, открытой эмоцией.
— Над какими проектами вы работаете сейчас?
— Основной — мое место работы. Я как-то поймал себя на мысли, что задействован на многих проектах, и от этого может страдать продуктивность. Полезнее было бы работать хореографом здесь, в театре Кариева, с одним коллективом, чем наездами с разными. Опять-таки мне важен актер. А когда приезжаешь куда-то на десять дней и приходится быть в роли постановщика, то просто не хватает времени уделить достаточное внимание каждому артисту. Пришел, поставил спектакль, а актеры как могут, так и играют. В этом и заключается проблема репертуарного театра — мне кажется, там нет работы с артистом. Вот что меня больше всего волнует сегодня.
Здесь, в театре, мы запускаем импровизационный проект, к тому же я каждый день провожу тренинги с местной труппой и сам в них участвую. Сейчас я пригласил к нам педагога родом из Альметьевска, который учился в Питере, а живет в Бурятии. Он владеет уникальной техникой телодвижений, изучает индийскую философию. Я ему доверяю. У нас совпадают взгляды на то, что ставки в театре нужно делать именно на творческого человека. Исходя из этого, выстраивается режиссура, которая работает на раскрытие потенциала актера, а не только на общую концепцию. Поэтому мы с Туфаном Имамутдиновым и танцором Марселем Нуриевым продолжаем творческие поиски на тему шамаиля. Мы пока никому ничего не обещаем, потому что хотим снять с себя обязательства и идти на результат. Нам не хочется влезать в репертуарный театр, мы старательно от него убегаем. Пока изучаем что-то альтернативное, потом, возможно, поставим задуманное или в процессе поймем, что не доросли, что это вообще не наше.

— Вы еще около года назад говорили, что было бы интересно сделать постановку, связанную с корэш (традиционный вид борьбы у тюркских народов, — прим. Enter).
— Пока этот проект никуда не сдвинулся, и снова из-за внутренних страхов и лени. В моей голове он периодически оживает, что является хорошим знаком — значит, импульс настоящий, искренний. Недавно я воображал, как все могло бы выглядеть, но если честно, пугает реакция борцов. Я с ними пообщался, и они люди с совершенно иным мышлением. Надо преодолеть себя и начать подготовку к перформансу, потому что это красиво.
Я увидел красоту борьбы, когда стал ходить на тренировки. Все выглядит не так эстетично во время соревнований — там спортсмен любой ценой пытается удержать победу, а во время подготовительного периода такого нет. Борцы пробуют свои силы, позволяют себе ошибаться — смотрится красиво, энергично, умно, а также нежно, брутально, сексуально: я хотел бы поделиться этим со всеми. Но боюсь, что спортсмены просто начнут бороться, а для зрителей все будет выглядеть как обычное соревнование. Если мне удастся снять с борцов чувство ответственности, возникающее на состязаниях, чтобы они на сцене чувствовали себя как в спортзале, то будет очень круто.
— То есть это будет какая-то импровизация на сцене на тему корэш?
— Пока сам, к сожалению, не знаю.
— Если бы получилось преодолеть страхи, что бы вы сделали первым делом?
— Мне бы хотелось найти группу артистов, которые будут работать с чистой энергией тела, а не психологией. Пусть для начала это будут два-три человека. Просто я не нахожу этого в других проектах, но сам чувствую, что так могло бы быть. Пытаюсь добиться чего-то похожего, приглашаю педагога, способного вместе довести идею до ума. Это откроет новые возможности.
— К мысли о перфомансе, связанном с корэш, вы пришли через свое увлечение. А что еще вас интересует и может позже превратиться в постановку или что-то подобное?
— Много чего цепляет. Появилась мысль совершить путешествие на Восток в сторону Якутии и Алтая — как раз оттуда наши предки, а здесь я не нахожу сильной связи с ними. Театральные критики говорят, что в наших произведениях нет системы образов татарской культуры — возможно, это действительно так, и дело во мне. Поэтому хотелось бы еще раз углубиться в культуру и литературу, куда более древнюю, нежели XX век. Пока это только мечты, и я ничего не предпринимаю, но надо бы. Дело в том, что, к примеру, петербургское образование, которое я получил — европоцентричное в любом случае. Проследить наши культурные коды мы можем максимум на сто лет назад, но что происходило в древнейшее время нам неведомо. Честно говоря, думаю, и критики такими знаниями тоже не обладают. Мы не знаем, каким был человек в XVI веке, каков его культурный код.
К пониманию настоящего можно прийти через историю: старинные песни, тысячелетние скульптуры с Алтая, которые называются балбалы — мне хочется вглядеться в их лица. Мы все знакомы со статуей Давида Микеланджело, и такое искусство видим со школы, с экскурсий в Эрмитаж. Как ни странно, европейская культура у нас в крови. Во время лекции про современный европейский театр я спросил у ведущего российского театроведа Марины Давыдовой, почему у нас в сознании понятие «современный театр» ассоциируется именно с Западом, и наоборот. Мне захотелось узнать, существует ли этот термин в отрыве от Европы, но ответа нет.
Это странный, но интересный вопрос: вот, например, корейский режиссер Ким Ки Дук делает фильмы, понятные европейцу, поэтому мы его знаем и думаем, что вот оно — кино из Кореи. Но мы не знакомы с творчеством тысячи других местных режиссеров, и, возможно, если мы увидим их фильмы, то не поймем и решим, что они плохи. С одной стороны, мы стремимся говорить о важном на современном языке, а с другой — надо ли так делать? Возможно, на Востоке есть гениальные театры, о которых мы не подозреваем, и можно ли сказать, что они существуют, если о них никто больше не знает? Пока получается, что современного не европейского театра нет. Нужно глубже копнуть, и не апеллировать только западными архетипами.
Фото: Кирилл Михайлов
все материалы

