Автор: Луиза Низамова
До 30 августа в галерее современного искусства ГМИИ РТ открыта выставка Inverso Mundus российской арт-группы AES+F. Enter встретился с участниками группы Евгением Святским и Владимиром Фридкесом, чтобы поговорить об искусстве как магии, ощущении времени в видеоинсталляциях, работе с оперой и общем между современностью и Средневековьем.
AES+F — российская арт-группа, названная по первым буквам фамилий участников: Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес. Основана в 1987 году. Фотограф Владимир Фридкес присоединился к группе в 1995 году, и группа стала называться AES+F (до этого момента — AES). С момента основания провели около 40 персональных выставок в России, Европе и США. Участники Венецианской биеннале в 2007-м и 2015-м. За последний год группа участвовала в выставках в Лондоне, Барселоне, Бангкоке, Риме, Женеве, Брюсселе и других городах.

Арт-группа AES+F слева направо: Евгений Святский, Татьяна Арзамасова, Лев Евзович и Владимир Фридкес
— В проекте Inverso Mundus вы используете в качестве отсылки средневековые гравюры в жанре «перевернутого мира» и с их помощью рассматриваете современный мир с его ценностями и конфликтами. Есть ли действительно что-то общее между современной и средневековой культурой?
Евгений Святский: Какие-то элементы средневекового мироощущения можно обнаружить, как ни странно, в повседневном медиа-окружении. Я наблюдаю всплеск интереса к мистицизму — гадалкам, чудесам, оккультным явлениям и прочим подобным практикам. Настоящий обскурантизм. Такие вещи вдруг становятся популярными и, что существенно, эти, в общем-то, низменные и невежественные пристрастия публики берут на вооружение государственные СМИ и потакают им, чего не было даже в позднесоветском опыте. Я бы назвал это провинциализацией.
Каналы, целиком посвященные мистике, массовые заклинания воды — что-то из Средневековья. Возможно, описанное ощущение выходит за рамки российской сферы. Мы помним, как рухнула высокая наука античности в Средние века, когда Европа умудрилась растерять все знания — и медицинские, и гигиенические, что, в числе прочего, привело к чуме. Ситуация, в которой существовала высокоразвитая культура, а потом раз — и все забыто, это не то чтобы небывальщина какая-то.
Владимир Фридкес: Происходит примерно то же самое, кроме технологий.
Е.С.: С одной стороны — смартфоны, интернет и VR и так далее, а с другой — вера в полную чепуху и мистику. Причем массово распространяется скорее суеверие, чем вера. Я считаю, что в России общество, скорее, не религиозное, и видно, как суеверия более или менее замещают собой у части публики научные представления о мироустройстве.
— Проект Inverso Mundus вы показали впервые в 2015-м году на Венецианской биеннале. Может ли он иметь продолжение по примеру вашей трилогии The Liminal Space?
Е.С.: Это работа не входит в предыдущую трилогию, хотя в чем-то преемственна и где-то связана с ней содержательно и технологически. У нас нет ощущения, что Inverso Mundus требует какого-то продолжения или может быть частью еще чего-то.
— Сложно не заметить особую пластику движений в ваших видеоинсталляциях, в том числе и в Inverso Mundus. Мне кажется, она помогает ощутить некоторый терапевтический эффект от просмотра. Как вы пришли к этому инструменту?
Е.С.: Терапевтический эффект? Почему?
В.Ф.: Тоже хотел спросить.
— У меня складывается впечатление, когда вы показываете, в общем-то, какие-то катастрофические вещи в такой замедленной съемке, в этом есть нечто успокаивающее и наблюдается некая…
Е.С.: Условность?
— Да.
В.Ф.: Мы не закладывали специальный терапевтический эффект, безусловно.
Е.С.: Язык этот формировался в период работы над нашими четырьмя видео-проектами (трилогией The Liminal Space и Inverso Mundus, — прим. Enter) и сложился в более-менее определенную формулу, которую мы нащупали интуитивно. Он в какой-то мере родился из технологий, которые мы использовали. Поскольку мы работаем с анимацией фотографий, то естественным образом возникает определенная прерывистость и замедленность движений и подобие танца от повторов жестов. Технология подсказала нам язык, и он нам понравился. Мы могли бы довести все движения до идеального состояния, но сознательно сохраняем некоторые «шероховатости», ставшие частью нашего языка.
В.Ф.: Это немного завораживает. Актеры на самом деле двигаются медленно, когда мы их снимаем, то есть эффект создается не искусственным путем замедления. Сама технология, которую мы используем, придает этому специальный оттенок, и нам это, скорее, нравится. Текучесть и «пластилиновость» форм возникает за счет компьютерной доработки, когда дописываются фрагменты, которые отсутствуют. Такой процесс называется морфингом.
Если при съемке кино частота кадра высокая, и все получается как в жизни, то в нашем случае, промежутки между кадрами гораздо больше, и отсутствующие между фазами движения дополняет компьютер. Это происходит не совсем автоматизировано: за процесс отвечает отдельный человек и где-то даже дорисовывает руками. Такая технология существует «тысячу лет». Я помню, что на канале «Культура», когда там работала Лена Китаева (главный дизайнер канала «Россия — Культура», — прим. Enter), были…
Е.С.: Оживленные картины.
В.Ф.: Оживленные скульптуры, когда ракурс показываемого предмета менялся и возникало похожее перетекание. Этот прием давно существует. Мы его не изобретали, потому что есть отдельные программы, которые создают такой эффект. Но мы изобрели свой язык. Самое забавное возникает во время съемки, когда актеру не ставится актерская задача, но ставится задача делать какие-то жесты, которые можно сравнить с кукольными, словно в японском театре. Актеры даже не всегда понимают, что делают, и за счет этого возникает определенное выражение лиц. Важный момент также в том, что между ними нет контакта. Они словно ожившие скульптуры, и это тоже интересно.
Мы начали с того, что хотели материал гипер-качества, и поэтому пришли к фотоаппарату, а не к кино- или видеокамере. Гипер-качество продиктовало нам последующие технологические пути, и когда мы стали изучать и «щупать» их, то поняли, что нам это очень нравится. Дальше эксплуатировали этот подход сознательно и превратили его в язык. Мы много раз между собой обсуждали его и думали: «Ну что, может быть, хватит его использовать?». Но каждый раз невозможно отказаться — жалко. Не знаю, что будет дальше, но пока так.







Это выставка Inverso Mundus, созданная арт-группой AES+F. Ее можно увидеть в галерее современного искусства ГМИИ РТ до 30 августа
— В ваших работах есть еще такая «стерильность» картинки и особенный свет в кадре.
Е.С.: Дело в том, что кадр, который вы видите, сконструирован. И света, который вы в нем наблюдаете, как такового нет.
В.Ф.: Нет, на людях свет все же есть.
Е.С.: Свет в студии ставится на каждого актера, когда все они собраны в кадре. Он выглядит примерно так же, как в компьютерной графике. Но в итоге в созданном кадре актеры находятся уже не в реальном пространстве, а в некой искусственно сконструированной среде, безвоздушной, я бы сказал.
В.Ф.: Если имеется в виду это, то да.
Е.С.: Поэтому возникает бесконечная глубина резкости. Изображение очень четкое, что, в свою очередь, создает эффект некоторой «обманки», почти стереоскопии.
В.Ф.: Если завершать разговор о технологиях, то есть еще один важный момент. Видео рождается не в процессе съемки, а во время постпродакшна — композинга и монтажа.
Е.С.: При съемке на площадке возможна импровизация, и иногда возникает больше материала, чем изначально предполагалось. Затем идет анализ отснятого, на основе его возникают новые идеи, параллельно идет работа по производству компьютерной графики, а также первичная обработка фотографий и их морфинг. После этого подгоняется графика и начинается первичная сборка эпизодов. Тут же начинаем делать эскизы картин, потому что для них создаются отдельные фотографии на другую камеру, с более высокой резолюцией. В этой части работы есть свои законы композиции и обстоятельства, которые надо иметь в виду.
— Как течет время в ваших работах?
В.Ф.: В одном из первых проектов, где мы освоили прием, о котором говорили до этого, нам хотелось передать ощущение бесконечно тянущегося времени, резинового, как жвачка, и создать впечатление, что персонажи у нас маются. Не мучаются, а именно маются — не знают, что делать. И это получилось очень правильно. Это ощущение работает и в Allegoria Sacra, в котором действие происходит в аэропорту, где все ждут задержанные рейсы и, подобно пребыванию в чистилище, не понимают, куда и когда они улетят.
— Можно ли сказать, что один из вопросов, который ставится в Inverso mundus, это, если цитировать Ролана Барта, «как жить вместе?»
Е.С.: Не совсем… В каком-то смысле можно сказать, что проект как-то затрагивает эту тему, но в основном, он, конечно, построен по принципу гравюр в жанре «перевернутого мира». Набор сюжетов и проблем, на которых заостряются внимание в каждом из коротких эпизодов, примерно такой: богатые и бедные, старики и дети, полицейские и воры, женщины и мужчины и так далее. Это пары или оппозиции, которые являются предметом обсуждений и находятся в фокусе внимания публики сегодня. Мы добавили в этот набор новые сюжеты — например, радикализацию феминизма, который предугадали за несколько лет до начала этого процесса. Тема конфликта поколений тоже налицо, как и процессы, которые приводят к тому, что бедные практически кормят богатых.




Скульптуры из проекта AES+F «Средиземное море», 2018 / AES+F | ARS New York
— В своих работах вы нередко отсылаете к разным страницам истории искусства. Есть ли у вас самые любимые образы или сюжеты?
Е.С.: Трудно сказать. Таких постоянных пристрастий нет. Они всплывают во время работы над тем или иным проектом. В целом история искусства кажется нам источником вдохновения, в котором всегда находится что-то, что созвучно тому, над чем мы работаем в данный момент.
В.Ф.: Это еще зависит от формы инсталляции, в которой мы работаем.
Е.С.: Вопрос, скорее, про композицию и эстетику самих эпизодов и персонажей, что мы сочиняем и подбираем на кастинге. Опыт последних четырех проектов показывает: работа над идеей занимает около года начиная с момента ее появления и заканчивая подготовкой производства. В течение этого времени и уточняется круг референсов.
В.Ф.: Не референсов, а инспираций.
Е.С.: На съемочной площадке у нас также присутствует мудборд. При этом в наших проектах вы никогда не найдете точного воспроизведения какого-то определенного источника. Мы создаем некое обобщающее ощущение и чувство чего-то знакомого.
— Теоретики называют создаваемый вами мир «магическим театром», и недавно вы в буквальном смысле поработали с театром, создав сценографию и костюмы для оперы «Турандот», которую показали в этом году в Палермо и Болонье. Предложение заняться этим было для вас ожидаемым?
Е.С.: Во всяком случае, оно было желанным. Мы не раз обсуждали между собой, что было бы здорово сделать оперу. В своих работах в эстетическом плане мы уже подходили близко к театральным композициям. Можно, например, вспомнить наше «Прибытие золотой ладьи» из «Пира Трималхиона» — это почти оперная мизансцена.
В.Ф.: К нам просто обратился театр, и мы согласились. Но это очень длинный процесс, связанный с разного рода согласованиями, что мы не особенно любим.
Е.С.: Да, оборотная сторона театра — довольно ограниченные финансовые возможности. Для того, чтобы осуществить сложный по технологиям и бюджету проект, необходимо найти сопродюсеров и партнеров в оперном мире. Ведь всегда есть уже сложившиеся репертуарные планы, существует баланс композиторов, и театр все время взвешивает, кого им не хватает. Работать над оперой было не так просто, и на это ушло, наверное, года три. Но в итоге мы получили большое удовольствие и довольны результатом.
В.Ф.: И это, конечно, совершенно другой опыт.
Е.С.: Мы надеемся, что будет какое-то продолжение театрального опыта, но уже с балетом. Пока что ожидаем разных новых предложений, хотя у нас есть и другие замыслы.





Фотографии с постановки оперы «Турандот», над сценографией и костюмами которой работали AES+F, 2019 / AES+F | ARS New York
— Известно, что вы начинали совместную работу с графического альбома к пьесе «Серсо» и говорили о важности книги как базы для вашего языка. Не возникало ли у вас мыслей вернуться к этому формату?
Е.С.: Таких планов пока нет. Это желание реализуется при выпуске наших каталогов, потому что мы часто сами делаем их дизайн. Действительно, на раннем этапе нашей совместной работы мы сделали несколько книг, которые являлись частью художественных проектов и существовали параллельно с ними. С тех пор мы ушли дальше, и на данный момент планов создавать работу в такой форме нет, но не исключаю, что такая идея может прийти позже.
— Вы занимаетесь не только видео, но и более традиционными техниками — живописью, скульптурой, рисунком. Расскажите, как они дополняют друг друга?
Е.С.: Бывает по-разному. Например, в проектах Last Riot и Action Half-Life по нашему ощущению было место для их воплощения в разной форме, в скульптуре, в частности. Такое разнообразие форм обогащает мир отдельного проекта и представляет интерес с точки зрения экспонирования. Выставка для нас — это также творческая задача, решаемая с учетом конкретного пространства и драматургии этого зрелища. Есть у нас и полностью самостоятельные скульптурные вещи: фарфоровые «Европа, Европа» и «Средиземное море», «Ангелы, демоны» и «Первый всадник». Не будем исключать, что в дальнейшем возникнут идеи, связанные с этой формой. Есть замысел по «Пиру Трималхиона», но мы пока отложили его на какое-то время из-за отсутствия условий. Мы хотели сделать серию скульптур из цветного мрамора в римском стиле.
Есть и живописные вещи в проектах. Созданные на раннем этапе «Патетическая риторика» и «Декоративная антропология», «Детская Библия» целиком построены на живописи. Был «Аполлон, вдохновляющий эпического поэта» в графике, имитирующей тиражность. В последующие годы мы увлеклись разными экспериментами с манипулированной фотографией и видео. Сейчас к арсеналу добавилась VR. Границы между традиционными и новыми медиа мы не проводим, и любое из них может пойти в дело, если в этом есть какой-то интерес и возможность «докрутить» проект. Может возникнуть идея делать что-то в одном, отдельном медиа.
— Нужно ли сегодня определять критерии искусства?
Е.С.: Современное искусство занимается постоянным исследованием собственных границ. Это и есть суть провокации публики — определить, что искусство, а что — нет. Поэтому искусство постоянно выходит за пределы музейной и галерейной территории или начинает осваивать какие-то пограничные смысловые категории. Примеров тому много — хэппенинги, перформансы, городские интервенции и много других практик. Театр этим тоже занимается.
Определяются эти критерии исключительно экспериментально, что вполне очевидный момент. Поэтому музеям следует внимательно следить за процессом, за исключением тех институций, которые сосредоточены на коллекциях античного и классического искусства. Музеям нужно быть открытыми к необычным попыткам определения этой территории. Такая практика широко используется в мире. Российские институции, которые связаны с современным искусством, тоже пытаются ее использовать. Другое дело, что в России сложно, наверное, пока быть абсолютно свободным в таких поисках, потому что есть политические и общественные табу. Но это вопрос времени. Искусство — то, что людей по-настоящему цепляет, волнует. Это магия, которая по-прежнему актуальна.
Фото: Кирилл Михайлов, AES+F
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях.
В мае группа Sonic Death выпустила видео «Скейтборд это преступление». Клип был смонтирован художником из Казани, известным арт-сообществу как Фокс. Это не первая его коллаборация с музыкантами: до этого он работал со Стереополиной, а сейчас сотрудничает с Арсением Крестителем и Vacant Flowers. Enter поговорил с художником о пионерах видеоарта, лоу-фае, языке монтажа и работе над клипами.
Фокс — видеохудожник, режиссер клипов и фотограф, родился в 1994-м году в Казани. В ноябре прошлого года переехал в Москву.

— Недавно ты сделал клип для Sonic Death, и это уже не первый случай твоего сотрудничества с музыкантами. Кем ты себя больше чувствуешь — видеохудожником или режиссером клипов?
— Сначала хотелось бы сделать небольшую ремарку для читателей: поскольку я скучный и пока что сделал очень мало, то буду говорить от лица некоего вымышленного человека, через которого смогу хотя бы произнести вслух слово «искусство» в этом разговоре. Кем я себя чувствую? Чаще всего — собакой, и в то же время режиссером кино. При этом я пока не успел снять ни одного полнометражного фильма. Получается как у Вуди Аллена в «Манхэттене», чей герой говорит: «Я актер. В данный момент я работаю водителем автобуса, но вообще-то я актер».
Режиссером клипов быть не хотелось бы, а определение видеохудожника мне, конечно, очень льстит. Но кино для меня первично. Даже в какие-то сложные моменты, когда необходимо успокоиться, я говорю себе: «Я режиссер кино, все будет хорошо». Мы друзья с Sonic Death, и я сделал для них клип. Скоро выйдет еще одно видео для Арсения Крестителя. Там еще что-то было в вопросе?
— Это был весь вопрос. И раз мы начали говорить о видеоарте и кино, то в чем для тебя заключается разница между ними?
— Это хороший и сложный вопрос, который заставил меня сильно задуматься. В понятие «кино» я вкладываю смысл, кардинально отличающийся от того, который этому термину обычно приписывается. Для меня это не то, что действует по законам, преподаваемым во ВГИКе или где-нибудь еще. Лучшие фильмы всегда находились вне контекста. Для меня этот вид искусства — инструмент освобождения. Поэтому кино может быть все что угодно.
Разумеется, есть линия, пролегающая между фильмом и видеоартом, просто она может быть крайне тонкой и едва уловимой. Я думаю, что второе, в отличие от первого, может появиться из какого-то одного найденного технического или монтажного приема. В этом виде искусства происходят те открытия, которые потом кинематограф апробирует и использует для чего-то большего. Видеоарт — младший брат фильма, более непослушный и свободный, завоеваниями которого пользуется старший.
— Ты используешь VHS-формат. Как ты пришел к этому языку?
— VHS мне нравится тем, что это наиболее дешевый и, следовательно, доступный способ получения аналогового изображения. Я люблю все аналоговое — шум, грязь, осязаемую «матерчатость» — и не переношу, когда картинка гладкая. И, естественно, каждая технология получения изображения несет в себе множество дополнительных смыслов и контекстов, что добавляет работе какие-то новые краски и случайные свойства, а мне это очень импонирует.
Сегодня мы видим и изучаем окружающий мир, находясь в плену очень четкой и слишком реалистичной картинки в наших камерах, сотовых телефонах и рекламе. В этой связи VHS видится утопической гаванью, этаким мостиком в место, где действуют другие законы. Я пришел к этому формату через банальное позерство, когда хотелось быть похожим на классных лоу-файных чуваков. Но когда начинаешь что-то осознанно делать, то есть, задаваться вопросами о том, что, зачем и как снимать, для позерства не остается места. Другие форматы мне тоже интересны. Думаю, скоро будут актуальны и первые цифровые камеры, потому что изображениям, сделанным на этих устройствах, тоже свойственны всяческие искажения и несовершенства.
— Первые художники видеоарта заимствовали стратегии и формы телевещания — например, Крис Берден покупал эфирное время, чтобы показать свои работы. Ты тоже работаешь в довольно известном видеоформате. Чувствуешь ли ты связь поколений?
— Нескромно скажу, что чувствую связь с пионерами видеоарта. В момент создания произведения ты находишься в некоей пустыне, где сам совершаешь открытия, пусть даже кто-то сделал их до тебя. Я стараюсь экспериментировать и создавать то, чего сам прежде не видел, и додумываться до всего независимо ни от кого. Когда ты работаешь над материалом, монтируешь его, то осознаешь, что занимаешься тем же, чем занималось множество людей до тебя. Это те, кого ты очень любишь, безмерно уважаешь и считаешь маяком. Такое понимание просто-напросто помогает жить.
— Если продолжать разговор о классическом видеоарте 60-70-х, то его базовым элементом является время. А как работает категория времени в твоих работах?
— Мне нравится выстраивать время таким образом, как оно не может развиваться в знакомом всем окружающем мире, потому что велик шанс, что оно и в самом деле не течет так, как мы привыкли себе представлять. Меня привлекает, когда в видеоработах время безразмерно увеличивается и начинает вскрывать само себя и внутреннюю сущность происходящих событий. Может звучать скучно, но в действительности это завораживает.
В клипах эта категория тоже работает совершенно по-другому. Имея дело с такой формой видео, ты получаешь возможность хорошо попрактиковаться в монтаже, а еще в ней за короткий промежуток успевает произойти очень многое, что тоже дает маневр для обмана времени. За какие-то несколько минут можно утащить зрителя в миры, где действуют совсем другие законы. Это напоминает увеличение масштаба страницы в программе Word до 400%, когда маленький клочок бумаги становится огромным пространством. Так же и с клипами: секунда, которую мы даже не замечаем, вдруг дает возможность произойти большому действию.
В действительности же за один миг происходит множество всего вокруг нас, особенно во время разговора — жесты, взгляды, слова. Масса информации поступает к нам каждое мгновение, мы фильтруем и не замечаем ее, иначе можно просто сойти с ума. Во время монтажа клипов выпадает шанс прочувствовать это и поработать в пределах одной секунды.
— Ты писал о том, что для тебя кино — уникальный способ передачи опыта существования. Можешь подробнее рассказать об этом?
— Я думаю, все самое важное скрыто от нас, и миру внешнему противопоставляю внутренний. Мне очень интересно, что происходит внутри головы у меня самого и еще больше — у других. Говорят, что только 26% людей обладают тем, что можно назвать внутренним голосом. У большинства же диалог с самим собой — движение среди бескрайних аудиовизуальных ландшафтов, порожденных миром культуры, и это завораживает и одновременно сбивает с толку. Мне кажется, ни одно из искусств не справляется лучше с передачей этого потока звука и изобразительного ряда лучше, чем кино. Оно передает его и вместе с тем является источником. Получается такой вечный круговорот образов в природе.
— Еще со времен Эйзенштейна принято говорить об особенной роли монтажа в кино. Расскажи, как ты выстраиваешь сцену и на чем делаешь акцент во время монтажа?
— Монтаж для меня является идеальным языком, и когда я монтирую — я говорю. Не люблю разговаривать, и печально, что делать это приходится при помощи слов, а не чего-то иного. Потому что они слишком вялые для того, чтобы передать всю полноту явлений. Можно сказать, что любой феномен — это многоликое чудовище, каждая из ипостасей которого меняет свой вид, и если мы назовем его каким-то одним словом, то остановим перевоплощение.
Монтаж позволяет передать очень тонкие сентенции. Когда я монтирую, то руководствуюсь сугубо внутренними чувствами и интуицией. Я стараюсь придумать неочевидную историю со смыслом, который можно считать, скорее, чувственно — когда понимаешь, но не можешь выразить, потому что слова здесь не сработают. Зато язык монтажа для этого подходит идеально.

— Какими еще тегами можно обозначить эстетику, в которой ты работаешь как художник?
— Мне бы очень польстило, если бы то, что я делаю, назвали лоу-фаем. Лоу-фай позволяет оставаться подлинным и смотрит на то, на что большинство смотреть брезгует. Низкое качество — инструмент освобождения, говорящий о том, что все является источником искусства, и что каждый может им заниматься. Хороших вещей на самом деле больше, чем кажется, и абсолютно все заслуживает взгляда, полного любви и внимания (смеется, — прим. Enter).
Другой тег — независимое кино. Это самая важная вещь на свете для меня, это лучшее, что изобрело человечество. Стоит заниматься только таким кино (смеется, — прим. Enter). Третий тег, вероятно, сопряжен с предыдущим, — это инди-культура и ее самостоятельные практики взаимодействия. Я думаю, они очень важны, потому что позволяют давать отпор медиа, корпорациям, власти, институциям и всему миру.
— Когда я увидела ваш совместный с Sonic Death клип «Скейтборд это преступление», я вспомнила фильм Джоны Хилла «Середина 90-х». Как в твоей работе взаимодействуют прошлое и современность?
— Я склонен полагать, что никакой современности не существует. До определенного момента я пытался цепляться за что-то, что казалось мне маркером передового и актуального, но на самом деле это обманчивая мысль. Когда находишься в диалоге с миром произведений искусства, то, во-первых, тебе тяжело жить, а во-вторых, на следование трендам нет уже ни сил, ни желания.
Каждый человек своими действиями неосознанно воплощает тот год, в который он родился. Я родился в 94-м и являюсь проводником образов, которые с ним связывают. Когда ты делаешь что-то по-настоящему осознанно и выносишь вещи из мира внутреннего во внешний, то не можешь руководствоваться бытовыми принципами вроде того, причислять свои идеи к современным или нет. Ты просто занимаешься этим, потому что не можешь иначе. Ты являешься агентом внешних сил, проводником, и делаешь это неосознанно. Название тому, что ты создаешь, дадут уже другие люди, и это не так важно.
— Можно ли говорить о некоем обобщенном герое твоих работ? Кто он?
— Я рискну предположить, что он действительно существует. Это обычный парень (хотя он может быть кем угодно), чувствующий себя не очень комфортно в окружающем мире: ему тяжело разговаривать и вообще что-либо делать, и он постоянно пребывает в смятении. В своих работах я пытаюсь «расчистить» место для людей, которых угнетает действительность.
— Твои видео не лишены юмора, в то же время в них присутствует саспенс. А кто из режиссеров, на твой взгляд, лучше всех удерживает зрителя в напряжении?
— Думаю, Тодд Солондз, американский независимый режиссер, чьи фильмы переполнены сексуальными девиациями и персонажами, которым очень некомфортно в этом мире. Его фильмы, как мне кажется, полны напряжения, они теребящие, как маленькие жучки, — словом, неудобны для зрителя. За это и люблю такие картины, как «Перевертыши», «Счастье», «Жизнь в военное время», «Такса». Очень советую.
— Ты снял для Стереополины клип «Коммуналка». Как проходила работа над видео, кто был автором сценария?
— Все придумал, снял и смонтировал я. Естественно, мне помогли мои друзья, которые снялись в клипе. Съемки проходили в Мергасовском доме, который на тот момент еще был обитаемым. Мы ходили туда три раза: сначала вместе со Стереополиной на разведку, а потом — на съемки две ночи подряд. Во вторую ночь на нас напали местные жители и допытывались, что мы там делаем. Это были какие-то подвыпившие мужчины и реднеки с ружьем — они все не могли понять, какое такое музыкальное видео мы снимаем, но при виде девушек почему-то растаяли и разрешили продолжить съемку. Эти люди предлагали зарядить у них дома камеру, но мы быстро ретировались. Клип «Коммуналка» был способом передачи внутренних тревожных состояний. Он получился довольно личным.
— В своем видео Demons are angels ты говоришь: «Изначально у меня были проблемы, но теперь я могу трансформировать их во что-то хорошее», имея в виду искусство. Тебе близка идея искусства как терапии?
— Мне эта идея очень нравится, и я всем советую заниматься искусством. Но смысл упомянутой фразы не в этом. Дело в том, что мне не очень нравится жить, но я не хочу избавляться от своих проблем (смеется, — прим. Enter). Я люблю их, они — это я. Мои переживания превращаются в образы, чаще всего тревожные и не очень приятные, но мне нравится в них находиться. В жизни происходят какие-то события, я пропускаю их через себя, и в моей голове они выглядят совершенно иначе. Я стараюсь это использовать.
— В том же видео сцена с тобой напомнила мне известный кадр из «Твин Пикса» с Ронетт Пуласки. Это случайное совпадение?
— (Смеется, — прим. Enter). Меня этот вопрос очень порадовал. Я не думал про Ронетт Пуласки, но похожие образы живут во мне постоянно. Линч, конечно же, большой учитель, который очень многое дал и ничего не попросил взамен, — святой человек. Но сцена из видео — просто визуализация моего ежедневного состояния (смеется, — прим. Enter).
— Я примерно так и думала! А какой фильм ты посмотрел последним?
— Последним фильмом, который я смотрел дома, был «Шоковый коридор» Сэмюэля Фуллера 66-го года, кажется. Это бескомпромиссное американское жанровое кино, которое было причислено к искусству сильно позже, так же, как и работы Хичкока в свое время были оценены по достоинству после смерти режиссера. Фуллер был признан изданиями вроде «Кайе дю синема» и связанными с ним режиссерами новой волны — Годаром, Трюффо и другими. Они назвали его ленты искусством, и только после этого фильмы стали воспринимать во всем мире. «Шоковый коридор» — классический фильм, рассказывающий историю журналиста, который ради расследования крупного убийства сознательно сошел с ума.
Последний фильм, который я смотрел в кинотеатре, — «Лестница Иакова» Эдриана Лайна. Он о том, что нужно порвать все связи с миром, стать ничем и устремиться к пустоте. Только таким образом можно превратить своих демонов в ангелов.
— Над чем ты сейчас работаешь? Стоит ли ожидать от тебя полнометражного кино?
— Сейчас я работаю над клипом Арсения Крестителя, у которого выйдет альбом в этом месяце, и видео последует за ним. Потом я должен снять клип для американца Vacant Flowers — супер-инди чувака, который записывает музыку дома. Я уже давно его слушаю, а тут он сам связался со мной через Instagram, и это нечто невероятное. Скинул свой трек, и у меня уже есть сценарий для него. Эта вещь принадлежит его второму, параллельному проекту MKS34RCH.
А потом мне хотелось бы заняться чем-то более независимым. Перед тем, как взяться за полный метр, я закончу несколько маленьких работ — в незавершенном виде они гнетут меня, и с этим нужно разобраться. Большое кино — мечта всей жизни, и я коплю деньги на его производство. Надеюсь, все получится, иначе… я даже не хочу думать о том, что может быть иначе (смеется, — прим. Enter).
Фото: Стереополина; предоставлены художником
В июне исполняется пять лет Private Sound — творческой команде единомышленников и одноименной серии вечеринок, которая знакомит город с разными школами и представителями электронной сцены. К юбилею команда готовит вечеринку с участием композитора и диджея из Рима — Кристофера Леджера (Meander, CL Series), которая состоится 15 июня на «Фабрике Алафузова».
Enter поговорил с основателем Private Sound Фаридом Ахмадиевым (dj F-Tek) о концепции проекта, главных инструментах диджея, общественных пространствах и дружбе между промо-группами.

«Если тебе чего-то не хватает, то будет логично заняться этим самому»
Я с малых лет окружен музыкой: учился в классе гармони и выступал с ансамблем, а чуть позже меня посвятили в электронную музыку. Тогда же я начал слушать радиопрограммы вроде Ozone Channel — одну из первых, посвященных клубной культуре. А знакомство с диджеем и впоследствии сооснователем Private Sound Шамилем (Shamil Om, — прим. Enter) произошло в школе, где он и еще несколько ребят устраивали дискотеки. С тех пор я все время поглядывал на вертушки и очень хотел научиться сводить, но до определенного момента не было возможности. Она появилась в 2004-м, и я прошел боевое крещение — освоил базовый курс диджеинга.
В то время я играл psytrance. Надо сказать, что Казань тогда считалась чуть ли не столицей этого направления в России, и московские диджеи здесь практически жили. Но постепенно мои вкусы начали меняться, в том числе и благодаря объединению Treekilo, у которых я учился, — они ставили более изысканную и атмосферную музыку вроде progressive, electro и minimal techno и часто подбрасывали мне что-то новое. Потом прошла волна открытий гламурных заведений вроде «Дягилева» и «Рая» в Москве, которая потом докатилась до Казани в формате нового клуба «Штат 51», где качественная электроника уступила место популярному формату и акцент ставился на баре. И, хотя параллельно Ozone Promo и другие промоутеры продолжали делать вечеринки, клубная культура стала приходить в упадок, и все реже можно было услышать хорошую музыку.
В 2012 году на одной из вечеринок серии «Технозавтраки» я услышал диджеев Toshie и Emil Bizzar из промо-группы Midnight Music, и они стали моими проводниками в хаус и техно. Для меня было открытием, что в Казани можно, оказывается, играть такую музыку, и я принялся активно ее собирать. Началась насыщенная пора моего диджеинга, и параллельно я стал ездить на европейские фестивали. Одними из них были Sonar и Sonar Off Week, который собрал промоутеров со всего мира и проходил в самых потрясающих локациях. Вернувшись в Казань, я понял, что мне этого здесь не хватает. На одной из таких вечеринок в Милане я познакомился с Риккардо (dj Riccardo BHI, — прим. Enter), резидентом Underground Community. Мне очень понравился его стиль. Той же ночью я подошел к нему и спросил: «А ты не хочешь приехать поиграть в Россию?» Мы обменялись контактами, позже созвонились еще, и я понял, что нужно что-то делать!

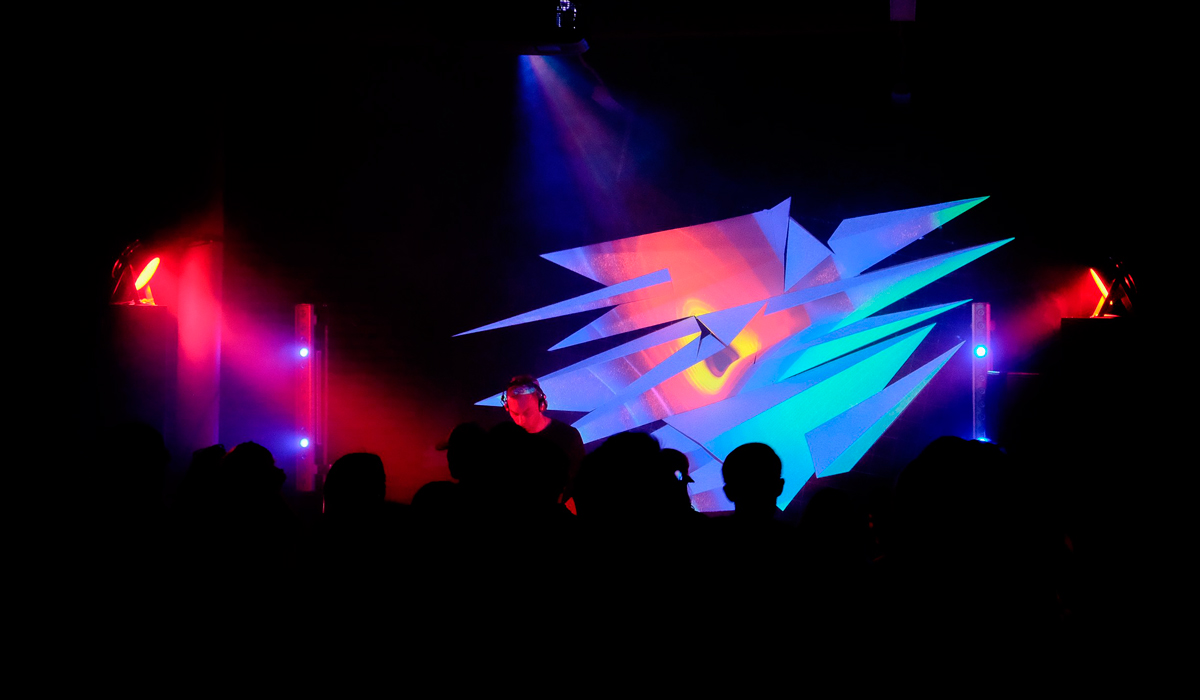

Вечеринка Private Sound 4 Years в ЦСК «Смена», 26 мая 2018
«Наша первоначальная стратегия состояла в том, чтобы знакомить город с зарубежной музыкой различных школ, которую мы где-то услышали и которая нам очень нравится»
Если тебе чего-то не хватает — а в Казани на тот момент почти отсутствовали места, где было бы приятно играть — то будет логично заняться этим самому. Я не имел опыта в организации подобных событий, поэтому обратился к Шамилю, своему самому давнему другу в сфере музыки и наставнику, и объяснил ему всю ситуацию. И вот на первую вечеринку мы везем Риккардо. Тогда курс валюты еще был адекватным, и приглашать иностранных артистов стоило недорого — порой даже дешевле, чем российских.
Наша первоначальная стратегия состояла в том, чтобы знакомить город с зарубежной музыкой различных школ, которую мы где-то услышали и которая нам очень нравится. Например, Kevin Cook, музыкальный директор клуба Ibiza Underground, или Piticu — первый румынский музыкант, которого мы пригласили в Казань и чьи треки давно ставили на вечеринках. Со временем, когда курс резко подскочил, мы поняли, что нужно корректировать планы. Начали привозить российских артистов, и чаще всего ими становились резиденты клуба Arma: Anushka, София Родина, Bvoice, Cross, Anrilov.
«Народ охотно ходил на вечеринки — вспомнить хотя бы “Арену”, которая вмещала больше двух тысяч человек и всегда была заполнена, или Street Beat Parade, когда прямо на перекрытой части Университетской с грузовика качал музон, и люди с удовольствием танцевали, а рядом художники бомбили граффити»
Выстраивание музыкальной стратегии возможно двумя путями: когда развитие сцены определяют клубы или когда промоутеры берут все в свои руки. В Казани работает вторая схема, хотя есть, например, такое место, как бар «Соль» со своей политикой — диско, соулом, фанком и электроникой. Из промоутеров есть «Изолента», которая делает ставку на более молодежную и энергичную, и, стало быть, быструю музыку и мощную арт-составляющую. Еще BNF с классическим техно или мы с более минималистичным звучанием. Кстати, я заметил, что к нам ходит публика постарше — та, которая танцует с нулевых.
Первой серьезной промо-группой в городе были Ozone Pro. Я помню свои первые походы на их вечеринки. Сколько им там сейчас, больше двадцати лет? Я был на их двухлетии в 90-х годах, еще во время своей учебы в татарско-турецком лицее. Мы отпросились с ребятами у родителей якобы в интернат, а сами поехали тусоваться на Ozone Pro. Из клубной истории Казани того времени можно вспомнить «Станцию» Андрея Питулова, Bald’n’max, а позже Monterdrome в «Униксе», Doctor Club и их хаусовые вечеринки, «Арену», Mad/Jolly Roger, «Медуху», или ДК Медработников. В городе было разнообразие музыки — драм-н-бейс, джангл, транс. Шамиль пишет об этом в своем сообществе. Еще были «озоновские» фестивали в лагере «Волга» на открытом воздухе, которые я пропустил и очень жалею. Сейчас подобное делают в Челнах в рамках May Day, курируемого промо-группой «М.И.Р.». Они известны не только своим появлением с вечеринками в Казани, но и тем, что здорово обосновались в Челнах, открывшись на базе «Слободы» — аналогов этому явлению сейчас в республике нет.
Ozone Pro были первыми и главными затейниками всего. Жаль, что они потом ушли в другой сегмент. В то время еще помогали спонсоры — алкогольные и табачные компании. Народ охотно ходил на вечеринки — вспомнить хотя бы «Арену», которая вмещала больше двух тысяч человек и всегда была заполнена, или Street Beat Parade, когда прямо на перекрытой Университетской с грузовика качал музон, и люди с удовольствием танцевали, а рядом художники бомбили граффити. Сейчас в городе в целом активность несколько иная, но благодаря усилию промо-команд ощутимо лучше, чем пять лет назад.
Что еще характерно, в нулевые публика как будто разучилась платить за вечеринки. Это произошло, потому что такие площадки, как «Штат 51» возили артистов за спонсорские деньги. А если вспомнить 90-е, то ценник на «озоновские» мероприятия был по тем временам порой даже дороже, чем сейчас. Теперь людям проще оставить эти деньги в баре. Поэтому мы начинали с самого низкого ценника. Но за время существования Private Sound ситуация несколько изменилась.
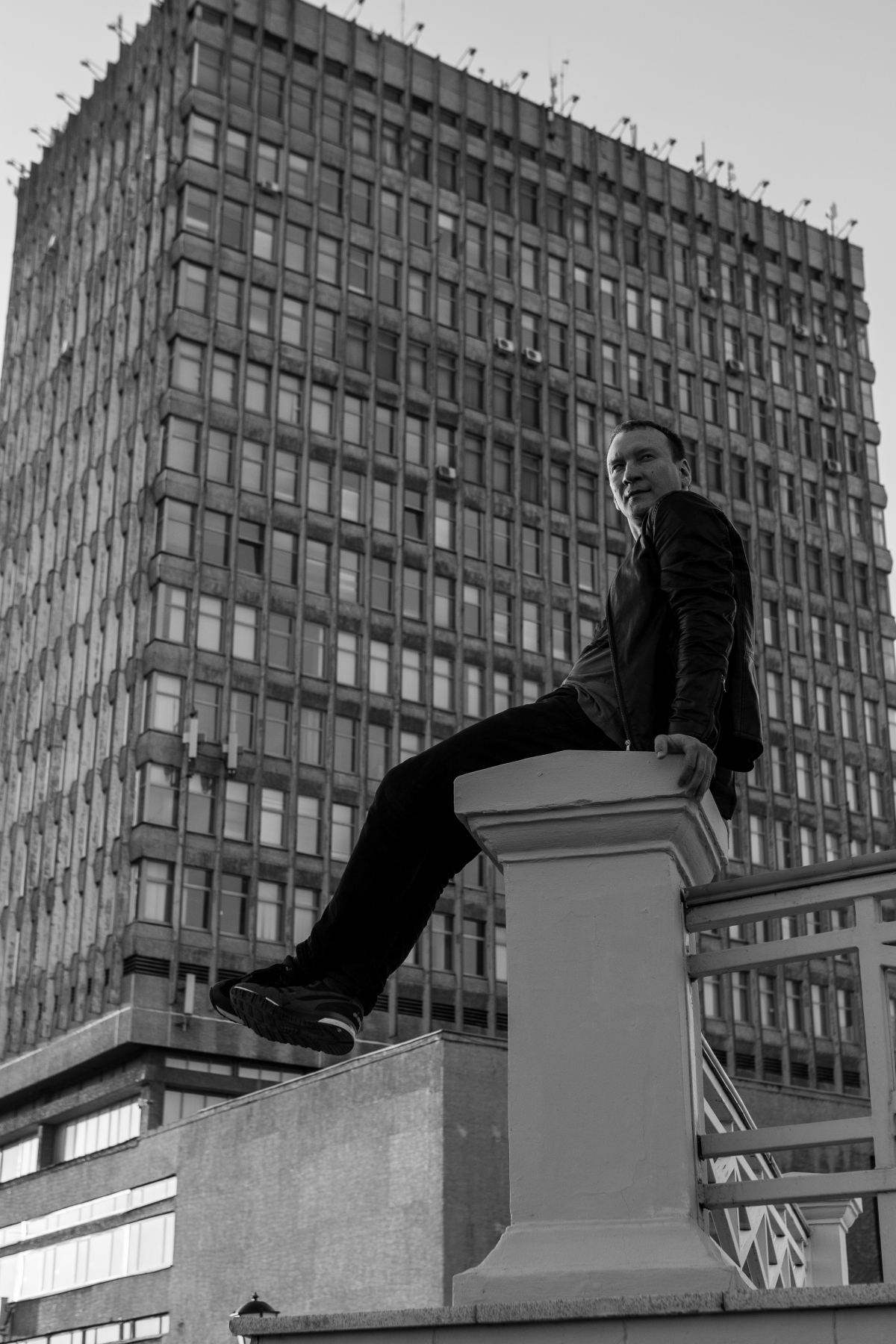
«Особенность нашей команды в том, что в ней одни диджеи. Поэтому иногда нас даже называют диджейской коллегией».
Название Private Sound говорящее: мы открылись в то время, когда в городе было засилье попсы, и звучание электронной музыки тогда считалось чем-то редким. Особенность нашей команды в том, что в ней — одни диджеи, поэтому иногда нас даже называют диджейской коллегией. В нашей работе нет четкой иерархии должностей. Я выступаю основным инициатором и составляю программу, а обсуждаем мы все вместе. Постепенно состав Private Sound расширился, что очень позитивно отразилось на работе, и сейчас нас шесть человек: я, Shamil Om, Aykhu, monsieurrr, Toshie и Darych.
Изначально наша команда состояла из двух человек. Но Private Sound в нынешнем виде было бы невозможным без поддержки дружественных промо-групп, близких и даже родственников, которые участвуют в организационных процессах. Помимо этого, за пять лет мы наработали определенные связи и за пределами Казани.
Перед событиями я много времени провожу на площадке, поскольку пока не всегда бывает возможность делегировать все организационные моменты. Мы плотно общаемся со всеми промо-группами города и поддерживаем друг друга. Мы все находимся в похожей ситуации и общие проблемы нас сближают.
«Главные инструменты диджея — это глаза и уши»
Главное в диджейском сете — гармония. Когда я начинал в 2012-м, то стремился найти материал с прямой бочкой. Позже monsieurrr и Toshie показали мне новую волну минималистичного саунда из Румынии, и в этом, кстати, плюс работы внутри промо-группы: там все время что-то препарируют, ищут новое и делятся этим. Диджею важно найти свою музыку, научиться чувствовать танцпол и уметь выстраивать сет в зависимости от того, когда он играет — в начале вечеринки, в прайм-тайм или в конце. Я полностью полагаюсь на слух и всегда хорошо чувствую, насколько «ложатся» треки. Мне кажется, главные инструменты диджея — это глаза и уши.
Конечно, большую роль играет качество подборки. Сейчас я чаще всего покупаю пластинки, потому что весь классный музон выпускают именно на виниле. Недавно Shamil Om писал о том, что это более осознанный подход, ведь винил — дорогое удовольствие, и ты покупаешь только то, что наверняка будешь играть. Я ставлю вещи, которые находятся между хаусом и техно, иногда добавляю electro или acid house. Мой рабочий диапазон — 120-127 bpm (beats per minute, или ударов в минуту, — прим. Enter), комфортный для прослушивания и в то же время танцевальный.
Если говорить о техно, то с момента появления в этом жанре не так уж много изменилось. В музыке все циклично и волнообразно, в ней постоянно появляются новые ответвления и интерпретации. Что такое техно? По большому счету, это каркас, чаще всего с прямой бочкой, на который могут накладываться другие партии. Мне нравится новая волна минималистичной музыки во Франции и румынское техно, хотя и это понятия относительные. Мы просто стараемся собирать красивую музыку. Рома (dj monsieurrr, — прим. Enter) называет ее «стильный музон» — она не давит и под нее можно танцевать часами.

Вечеринка Private Sound, где выступали F-Tek и основатель «ГОСТ Звука» Low808. Roof Cocktail Bar, 16 сентября 2017
«Звук должен быть идеальным: и по мониторной линии, чтобы диджей мог слышать треки, которые готовит к сведению, и по уровню давления, чтобы всем было комфортно, и по басу — он должен быть мягким, пружинистым и обволакивающим»
На вечеринках Private Sound мы уделяем много внимания саунд-системе и получаем за это положительный отклик от публики. Мы могли бы провести событие в темной и абсолютно пустой комнате, но звук там должен быть идеальным: и по мониторной линии, чтобы диджей мог слышать треки, которые готовит к сведению, и по уровню давления, чтобы всем было комфортно, и по басу — он должен быть мягким, пружинистым и обволакивающим.
Музыка и танцы дают свободу самовыражения и возможность отдохнуть и зарядиться позитивной энергией. Поэтому мне кажется очень печальным, когда происходят ситуации вроде тех, что была с «Рабицей» в Москве. Раньше рейв был формой протеста, но сейчас я бы не называл это контркультурой.
В эпоху диджитализации, когда самая разная музыка стал общедоступной, роль диджея становится менее заметной. Вокруг огромное количество альбомов и подкастов, тут оказывается важным умение играть и выбирать, потому что находить в такой массе самородки — непростое занятие. Диджей действительно должен уметь выстраивать целую историю с погружением и развитием сюжета во время сета, а в Казани далеко не все это понимают.
«Хотелось бы, чтобы общественные пространства чаще доверялись промоутерам, так же, как это делается во всем мире»
В Казани мало качественных площадок, да и просто мест, где можно что-то провести. Хороший пример для подражания — тот же фестиваль Sonar, дневная программа которого прошла в музее современного искусства в Барселоне. Что же касается нашего города, то я очень надеюсь, что речной порт приведут в порядок. Хотелось бы, чтобы общественные пространства чаще доверялись промоутерам, так же, как это делается во всем мире. Ведь, скажем, тот же Берлин привлекателен для туристов не только своей историей, архитектурой и искусством, но и музыкальной сценой. Люди из сферы туризма должны понять: если клубная культура будет развиваться, если не будет рейдов по площадкам, то Россию станут посещать куда охотнее.
Казань окружена большим количеством воды, и очень грустно видеть, в каком состоянии находится гражданское судостроение. Ситуацию усугубила затонувшая «Булгария», после которой запретили ночное судоходство. Несмотря на то, что летний сезон у нас короткий по сравнению, скажем, со Стамбулом, было бы круто задействовать и водное пространство для проведения музыкальных мероприятий. Тогда город увидел бы больше вечеринок.
За последние пять лет казанская электронная сцена заметно выросла, значительно поднялся и уровень проводимых мероприятий. Когда в 2015-м мы стали резидентами клуба BioPort и на протяжении года играли там, в городе почти не было других площадок. После его закрытия мы вернулись к проекту Private Sound c уже новыми знаниями и силами и постепенно стали более узнаваемыми в городе, в том числе благодаря сотрудничеству и поддержке других промо-групп. Особенно BNF — у нас близкие отношения. Мы планируем работать над тем, чтобы приглашать крупных артистов в город, будем стремиться поднимать уровень и масштаб мероприятий. После вечеринки в честь нашего пятилетия в июне хотим уйти на небольшие творческие каникулы, а вернемся уже осенью, хотя не исключено, что летом успеем сделать что-то еще. Поэтому очень хотим видеть всех на нашем пятилетии.

Вечеринка Private Sound meets Ibiza Underground. Хедлайнер — Kevin Cook. 1 декабря 2018
«Ситуация с ростом евро сыграла не последнюю роль в развитии локальной сцены»
Что касается расстановки сил в мире электронной музыки, то Америка и Германия все так же остаются флагманами. Я знаю, что Латинская Америка тоже набирает обороты и планирую покопаться в этой теме поглубже. Из того, что интересует лично нас, — сцены Франции и Румынии, хотя последняя гораздо более андеграундная. Россию центром влияния пока назвать сложно, но есть отдельные имена мирового уровня — в первую очередь Нина Кравиц, конечно. Очень радует успех казанских PTU. Кстати, ситуация с ростом евро сыграла не последнюю роль в развитии локальной сцены.
Когда мы приглашали Piticu из Румынии, это был результат определенной работы, которую мы проделали: начиная с того, что в отдельный момент увлеклись новой румынской волной и часто играли подобную музыку в своих сетах, и заканчивая статьями об их электронной сцене, собранными в единую картину и переведенными нами специально для публикаций перед приездом артистов. Поэтому можно сказать, что мы выполняем еще и просветительскую функцию. Развить тему знакомства аудитории с глобальными процессами не только через музыку, но и через публикации теоретически интересно, но для того, чтобы писать об этом, нужно находиться в гуще событий индустрии, чем Казань в силу своего географического положения похвастаться не может.

«Мы, конечно, хотели бы иметь собственное пространство, где на постоянной основе можно делать вечеринки»
Если же говорить о дальнейших планах, то мы, конечно, хотели бы иметь собственное пространство, где на постоянной основе можно делать вечеринки. Сейчас мы не так часто их устраиваем — не больше одного раза в два месяца. Нам симпатичен опыт бара «Соль», который проделывает огромную работу, чтобы заполнить программу в каждые выходные. Но реализовать нечто такое же насыщенное силами нашего нынешнего, довольно небольшого состава, наверное, пока сложновато. Нам также нравится, что есть магазин винила «Сияние» — привет «Смене» за то, что они делают для культуры города. А мы дополняем всю эту картину.
Фото: Кирилл Михайлов, Булат Рахимов, Soul Man, Марат Шамсутдинов
18 мая в Центре современной культуры «Смена» откроется «Красное» Ильгизара Хасанова — последняя часть выставки-трилогии «Женское. Мужское. Красное». Первые две можно было увидеть в ЦСК в 2015-м и 2017-м. Эта трилогия — результат долгосрочного исторического и антропологического исследования художником советской материальной культуры. Enter встретился с Ильгизаром Хасановым и поговорил о самокритичности, важной роли зрителя и чувствительности.
Ильгизар Хасанов родился в 1958 году в Казани. В 1982 году окончил художественно-театральное отделение Казанского театрального училища. С 1996 года — член Союза художников России. С 2000-го — член Общества Франца Кафки (Прага), удостоен его диплома и золотой медали. В 2013 году стал одним из основателей казанского Центра современной культуры «Смена». Работает с живописью, скульптурой, реди-мейдом и инсталляцией.

— Когда вам впервые пришла мысль о занятиях искусством?
— Я помню, что предан искусству с детства. В отличие от большинства школьников, я был к нему неравнодушен, и если нас водили в музеи, становился самым внимательным зрителем. Рисовал с детства, но не учился в художественной школе. На Федосеевской, рядом с местом, где мы жили, находилась первая художественная школа. Я ходил мимо нее в баню, и это грустно: вроде за одной чистотой ходишь, а другой чистоты добиться не можешь. Мне казалось, что для поступления нужна какая-то подготовка, а я сомневался в себе, думал, что есть люди, которые предназначены для этого. Я и сейчас в этом убежден.
Я с детства собирал всякую старину и железяки. У меня все время было желание их куда-то приспособить. Что-то из этих коллекций осталось; среди них даже есть предметы, которые я собирал в 12 лет. В «Красном», по-моему, присутствует что-то из того времени.
Осознанно начал об этом думать, наверное, в 25 лет, после окончания театрального училища. Постепенно я понимал: приличные произведения не так легко создаются, как кажется. А ведь люди зачастую думают, что могут считать себя художниками или музыкантами — достаточно лишь назваться ими. Это тоже нормально, некоторые так и живут. И все же важно оставаться самокритичным, хотя тогда нужно иметь крепкую нервную систему. С другой стороны, при таком подходе у тебя есть шанс развиваться, но не быть нужным никому, кроме себя самого.
— «Красное» — последняя глава вашей трилогии. С тех пор, как вы показали его на Триеннале российского современного искусства в «Гараже» в 2017-м, вы дополнили его новыми предметами. Что это за вещи?
— В «Гараже» я просто показал по фрагменту от каждой части. А теперь желание одно: свести все части в большой проект, который будет литературно называться «Женское. Мужское. Красное». Не то чтобы я пытаюсь обозначить что-то как важное, а что-то — не очень и указать, что это — женское, а то — мужское. Я даю свой субъективный взгляд, потому что существуют вещи из женской жизни, которые я наблюдал, находясь в окружении мамы, сестры, подружек сестры, бабушек. Оказывается, когда ты живешь с этим опытом, по истечении какого-то времени память возвращает тебе его в виде картинок и воспоминаний.
Кто такой художник? Это тот, кто все время делает выбор. Я даю себе какое-то время на «утряску» и «усушку» мыслей. Потом может оказаться, что одни из них не так важны, а вторые могут беспокоить и приобретать четкую структуру, пока ты занимаешься совсем другим проектом. Сейчас ты не можешь, как раньше, взять один сюжет и долго о нем рассказывать, потому что время значительно ускорилось. Это не значит, что за ним надо гнаться, это значит, что сегодня мы просто живем по-другому.






— Но при этом все равно вышло, что ваша трилогия растянулась во времени.
— Ну конечно. Все началось с «Красного» — хотя оно и замыкающее — но при всей простоте проекта тебе лично эти красные предметы никто не предоставит. Все они моего поколения, и через них рассказывается история — история страны, если хотите. «Красное» — не совсем про ностальгию.
Эти «покраснения» в виде галстуков и флагов возникли не просто так. Это идеологически четко выдержанная программа, когда человека держат внутри словесных и визуальных образов, и чтобы он к этому привыкал, ему с детства дают какие-то нелепые красные игрушки. Но ведь в реальности мишка или черепашка имеют совсем другие цвета. Хотя можно, конечно, пошутить, что они покраснели от стыда. Красный фигурирует в разных контекстах, но мы спроектированы на потреблении этого цвета с определенным значением. И какой-нибудь серый редко делают символом, а вот красный — делают. Он, получается, такой контрапункт.
— Что нужно знать зрителю, чтобы смотреть на ваши работы?
— Когда ты воспринимаешь искусство даже такого великого пейзажиста, как Шишкин, надо знать определенные культурные коды. Он был знатоком природы, анализировал особые ее состояния — закаты, восходы — и создавал драматические сцены за счет света. Это самые сильные состояния натуры, кульминационные, и люди от них в восторге.
Возвращаясь к красному цвету: ведь не я это все придумал, я просто собрал вещи и определил их расположение в инсталляции. Если хочешь разбираться в современном искусстве, ты должен быть в какой-то степени образованным. В противном случае тебе придется говорить: «Я этого не понимаю», «Мне это не нравится». Некоторые гордятся такой позицией, и если говорят о современном, то начинают как бы упрощать его, потому что для них это заумь.
Что такое современность? Это новые языки, это междисциплинарность. Скоро все формы настолько сольются, что устанешь определять, к какому виду искусства относится то или иное. Пиотровский считает, что никакого современного искусства не существует, есть просто отдельные части общего. Но мне не хочется так говорить, потому что тогда можно вообще все свалить в одну кучу, и разобраться в этом будет сложно. Проблема находится, скорее всего, на уровне интерпретации искусства.
— Был ли какой-то поворотный момент, после которого вы направились в сторону создания реди-мейдов и инсталляций? При этом вы продолжаете заниматься живописью.
— Мне никогда не было интересно традиционное искусство. Я работаю в разных медиумах и могу своими руками создать объект или скульптуру. Как любому амбициозному человеку мне неинтересно уже созданное и увиденное когда-то. Художник ищет свою выразительность, а выразительность — это некое внутреннее беспокойство. Ты узнаешь, что нечто, что ты сам хотел бы сделать, уже сделано, и если не опустишь руки, то начинаешь в этом барахтаться, а потом уже легко плаваешь от берега до берега. Остальное зависит от того, какой у тебя человеческий опыт. Главное, что тебя волнует как художника. Я не имею в виду ремесло, которое ты уже освоил — дело в правде, которую ты имеешь право отстаивать.
У меня театральное образование и простая специальность, но звучит красиво — художник-бутафор. Я ставил спектакли, а потом и кино, что значительно расширило пространство моего творчества. Я даже режиссерам в хорошем смысле стараюсь что-то иногда подсказать, хотя не все это любят, потому что многие из них привыкли смотреть на формат картинки через актеров.
— Какие взаимоотношения вы выстраиваете между живописью и скульптурой в своей работе?
— Сначала я создавал очень самостоятельные объекты, ассамбляжи. А как в скульптуре выйти на объем? Ты начинаешь идти от плоскости картины, делаешь барельеф, горельеф, постепенно добавляешь объем, а потом доходишь до потребности в самостоятельной форме. Мои проекты достаточно сложные, и я стараюсь соединить разные медиумы, чтобы зритель начал смотреть мою выставку с традиционной части — живописи и смог дойти до объекта, к которому он не очень готов. Получается, я провожу вот такой ликбез, потому что для меня важно создать среду. И именно поэтому мы основали «Смену». Если бы это не имело для меня значения, можно было бы уехать в Нью-Йорк и биться там, как Яеи Кусама. Но я не способен на это, я прагматичный. Нужно быть отвязным, чтобы отстоять свой безумный мир, который тебе кажется реальнее реального.
Художник пытается всем объяснить этот сочиненный мир, а его критикуют, мол, ты неправильно композицию построил. Есть такая штука: люди, не умеющие рисовать, начинают рисовать с ресниц, потому что впечатляются глазами. Еще и голову не построят, а уже глаза рисуют. И дети рисуют точно так же. Но ведь искусство работает с целым, универсальным. И когда ты не умеешь этим оперировать, то, конечно, будешь говорить: «Мне не нравится, как ты написал глаз». Нравится или нет — вопрос вкуса, и к искусству это отношения не имеет. Ведь бывают художники, которые на фоне своих сверстников очень неприятны для восприятия — тот же Мунк, например.







— Мне кажется, он и сейчас остается сложным для зрителя.
— В этом и есть его психофизическое состояние, которое он как честный человек транслирует. А вспомните Фрэнсиса Бэкона. Если мы будем выставлять только цветочки и все красивое, где в этом человеческое? Мы разве все белые и пушистые? Нет. Искусство — не просто терапия. Оно — про жизнь, про грязь, про небо, про подземелье. Мне хочется, чтобы люди поняли, что искусство это не то, что ласкает их и спасает от жизни. Человек должен прямо смотреть на вещи и события, а искусство только помогает в этом.
— Вы работаете с фигуративным (подражающим видимому миру, — прим. Enter) искусством: создаете человеческие скульптуры, часто используете найденные объекты, которые раньше выполняли утилитарную функцию. Интересно, почему при вашем дадаистском (дада — художественное явление, возникшее в Цюрихе в 1916 году на фоне ужасов войны и строившееся на противоречивых принципах: от отрицания самого искусства и любых канонов до наделения статусом искусства предметов быта, — прим. Enter) подходе к предмету вы не выбрали абстрактную форму?
— Если бы я родился тогда, когда дада зародилось, я бы, конечно, был его участником, и, может быть, тоже раздвигал границы. Сегодня я использую этот язык, потому что художник, по большому счету, как копилка: он собирает не только предметы, но и историю искусства. Все, что мы делаем, уже сделано какими-то художниками, все ощущения уже проверены. Не проверено только то, что сделаешь ты сам. У меня есть работы, в которых я использую разные эстетики в искусстве, близкие мне. Эстетика и этика художника — дело выбора. Сначала ты выбираешь, а потом оказывается, что ты становишься благодаря этому кем-то еще — может быть, даже тем, кого недоставало внутри какого-то течения.
Сюрреалистов я тоже люблю, но больше, наверное, абсурдистов: Кафку, Ионеско, Хармса. Мне нравится ход их мысли, когда все начинается с простого механического действия и затем уходит в дебри бессознательного и путешествует там. Здесь ты уже не можешь объяснить, о чем они хотят сказать, но солидарен с ними. Такой художник может пойти дальше и нарушить этику, и это очень круто. Он может иногда нарушать традиции, как Малевич, который сказал, что нужно закрыть вопрос о живописи. Художнику это необходимо, чтобы его вписали в канон. Но сегодня время манифестов закончилось, и, скажем, фраза Кабакова «в будущее возьмут не всех» мне кажется стебом. Тут надо вспомнить великого Станиславского: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Второй вариант не для меня. Я родился с любовью к искусству, и я культивирую ее. Некоторые художники занимаются воспроизводством себя: у них есть статус и есть узнаваемый язык, их уже мало что колышет. Но нужно помнить, что все очень эфемерно.
— Мне кажется, один из самых запоминающихся объектов из ваших последних проектов — часть инсталляции «Упаковка» (2017 год): пальто, из которого навстречу зрителю протянута рука. Почему именно рука?
— Чтобы это придумать, нужна некая провокация. В детстве я видел, как эти пальто упаковывают, и это меня пугало. То же самое я испытывал, когда видел, как пеленуют младенцев. Я был очень чувствительным ко многим визуальным образам и способам жизни.
Помню, мы с мамой покупали ей пальто. И его так ловко скрутили — вроде была одежда, а превратилась вдруг в жуткий обрубок. Я увидел в этом много смыслов. Например, «человек упакованный» значит человек хорошо выглядящий, а словосочетание «запаковать человека», означает лишить его всего, «закрыть» — слово из тюремного сленга. И все это синонимы. Одновременно я делал объект — руку. Она появляется внутри разной одежды — в кителе, в пальто. Получается такой фантомный след: человек из советского времени здоровается с нами. История «Упаковки» — о шестидесятых годах, когда пальто было не столько признаком материального достатка, сколько духа, способности человека сделать что-то. Получается, что мой персонаж с рукой «распаковался» и здоровается — то есть он спасся с нами.
Интерпретаций «Упаковки» я слышал уже штуки четыре. Поэтому я говорю, что бэкграунд зрителя важен. Когда ты смотришь на работу, твой личный опыт и знание культурных кодов сходятся, и с тобой что-то происходит. Ты становишься частью увиденного: не просто видишь и радуешься, что художник что-то умеет, а понимаешь, что это создано и для тебя тоже.

— То есть вы согласны с тем, что говорил Марсель Дюшан? У него есть высказывание о том, что созерцатель произведения искусства делает 50% работы.
— Да, согласен.
— А может ли произведение жить само по себе, без участия зрителя?
— Произведение физически само по себе может существовать, но история показывает, что зритель все равно существует. Не из-за того, что художник амбициозный, а оттого что природа так устроена: человек существо коллективное. Как идеалист, каждый художник ищет соратника, который не похвалит его, а поддержит и скажет: «Я так же мыслю, просто у меня руки не оттуда растут. Но это абсолютно мое». Мы же помним, откуда появился интерактив — перформансы и хеппенинги? В том числе и наши великие «Коллективные действия», в акциях которых была важна коммуникация. Что интересного во всем этом? Общение. Искусству нужен зритель, не благодарный, а адекватный, который готов к восприятию, как ты. Если ты еще сомневаешься в своей работе, то тебе поможет зритель, скажет: «Это классно. Это важно». Без него искусство давно выродилось бы.
У меня в мастерской на стене написана фраза Ницше. Не уверен, как она точно переводится, но я произношу ее так: «Искусство — это единственное оправдание человеческой жизни». Звучит пафосно, но я давно задумывался: а что еще, если не это? Семью растить и родину защищать от придуманных врагов? Удовлетворение получаешь только в искусстве.
— С кем вы ведете диалог в искусстве?
— Я когда-то полюбил Джорджо Моранди. Я не знал, что он культовый художник, мне просто понравилась его простота. Я увидел его репродукции в альбоме, который продавался в магазине «Дружба народов». Мне показалось, что это наивно, но очень трогательно. Потом на «Документе» (международная выставка современного искусства, которая проходит каждые пять лет с 1955-го года в немецком городе Кассель, — прим. Enter) я уже более тщательно посмотрел его работы. Там были и предметы, которые он рисовал. Я даже сделал оммаж Моранди, написав натюрморт со старыми бутылками. Повторять художника значит приблизиться к нему по ощущениям, но совсем не подразумевает простое его копирование. Я схож с Моранди, потому что сам собирал старье. Я люблю эти вещи, ведь они — носители времени и рассказывают мне историю, а я чувствителен к этому. Современные предметы тоже воздействуют на меня таким образом, только через современность я высказываться пока не хочу. Но обязательно доберусь до этого.
Из тех, кто мне еще близок, — это Фрэнсис Бэкон и Марк Ротко. После них Кандинский кажется карнавалом в хорошем смысле слова. Ротко поражает своей брутальностью. Это как в музыке: я любил «Битлов», пока не услышал Мика Джаггера. Это не значит, что я перестал любить первых. Но желание художника вытащить наружу то, что неприлично — важно. Я сам такой, но тут, где я живу, многие темы табуированы, мне людей жалко: они настолько крепко держатся за свое невежество, что просто боишься их обидеть.
— Следующий вопрос касается архивации искусства. Какую форму в конечном счете должна принять «антология советского человека» (как вы назвали это в своем прошлом интервью), которой вы занимались в своем творчестве последнее время?
— Скорее всего, это превратится в книгу. Это будет не просто каталог. Я понимаю, каким образом люди входили в страшные истории — вроде Германа с его последним фильмом или Норштейна, который бесконечно снимает фильмы про Акакия Акакиевича. И с трилогией получилось примерно так же: сначала появилось художественное высказывание, потом я добрался до архивной части, слегка состарился и сам уже стал предметом исследования. Получается, что тебе нужно либо поставить точку и выбраться из этой истории, либо усложнить ее. Представляете, как это может быть издано: красивая коробка, в которую вложены картинки с выставки и архивные документы. Но это уже чисто антропологическая история, конечно. На это нужно откуда-то взять силы и средства.
— Последние годы вы много времени посвящаете созданию музеев и обновлению экспозиций уже существующих. Что это за музеи? Можете рассказать об этом подробнее?
— Мы не просто обновляем, а полностью меняем экспозицию. Началось это с музея Горького, потом нас пригласили заняться музеем Толстого. Позднее мы взялись за краеведческий музей в Болгарах, который был начат дворянами Лихачевыми, а позже утрачен. Коллекции не было, и я ходил по блошиному рынку, докупал предметы. Мне нужно было создать атмосферу дворянства. Этого не удалось достичь на 100%, потому что дом, в котором располагается музей, не дворянский, а мещанский. Даже больше — это жилой домик для четырех человек.
Многим музеям я помогал делать отдельные объекты. Эта работа меня обогащает, так же, как и работа с кино. Я был художником-постановщиком семи фильмов. И сейчас на подходе ещё один, основанный на серьезном материале про Казань 80-х.
— Это ваши ближайшие планы?
— Да. У меня проекты идут один за другим, даже передохнуть некогда. Хотя я считаю, что лучший отдых — это хорошая работа. В искусстве для меня важен сам процесс. Когда все срастается, это просто счастье.
Фото: Даниил Шведов
26 апреля в здании бывшей мебельной фабрики на Тукая пройдет третья вечеринка цикла «Реверс» — совместной серии мероприятий «Изоленты» и «Гете-Института». В качестве хедлайнера выступит музыкант и медиахудожник Станислав Глазов с проектом PRCDRL. Enter поговорил с ним о концертах как репетициях, «жестком индустриальном месилове» и авторстве в работе с искусственным интеллектом.
PRCDRL (Procedural) — аудиовизуальный проект Станислава Глазова, родившийся в Берлине. Его лайвы на модульных синтезаторах сочетают индастриал и эмбиент, дисгармонию шума и гипнотические мелодии. Станислав Глазов выступал в берлинских Tresor и Berghain, его встречали в Японии, Перу, Австрии, Испании, Швеции, Франции и на легендарном фестивале Mutek в Монреале. В России он играл в Mosaique, Blank, Aglomerat и «Порт Севкабель», а также был гостем недавно прошедшего в Нижнем Новгороде фестиваля Intervals.

— Вас можно сравнить с человеком эпохи Возрождения, потому что вы работаете с разными видами искусства: пишете музыку, создаете видеоарт и световые шоу, читаете курсы по визуальному программированию, до этого занимались кино. С чего все начиналось?
— С детства родители, друзья и родственники прочили меня в художники, а в юности я понял, что хочу заниматься музыкой. Но поскольку прошло много лет до того момента, как я реально начал ее писать, то все как-то само по себе и срослось. А разными художествами я продолжал заниматься, собственно, с самых ранних лет.
В какой-то момент я понял, что кино — совсем не мой стиль жизни: иногда оно требовало быть вовлеченным по четырнадцать-шестнадцать часов в день. Но в отличие от того, чем я сейчас занимаюсь, совсем не оставляло пауз. При этом возможности реализации себя как художника я там совсем не увидел, потому что создание фильма — это работа в большой команде, и в ней ты всегда воплощаешь замысел режиссера. Наверное, это не соответствовало моим амбициям.
Во время работы в кино я начал перестраивать то, как воспринимаю самого себя, параллельно занимаясь музыкой, и искать, как применить свой опыт и навыки в визуальном искусстве. Постепенно все привело к тому, что сейчас есть.
— Существует ли какая-то генеральная идея, которую можно проследить во всех этих направлениях? И связано ли название проекта PRCDRL с процедурным программированием?
— Я бы сказал так: генеральная идея сейчас, скорее, устаканивается. Я бы назвал 2019-й периодом, когда я все переосмысливаю.
По поводу связи названия проекта с процедурным программированием — это действительно так. Есть, например, известный техно-музыкант Function, и я бы сказал, что Function и PRCDRL в смысле названий — это синонимы. Я воспринимал себя как некую функцию, которая фильтрует поток, приходящий свыше, и выдает какой-то результат. Сейчас мне хочется двигаться в сторону нарративного искусства с более осмысленным посылом, и на фоне этого рождаются различные проекты. В прошлый уикенд, например, была презентация нового лайва Gesprochen, в котором речь идет уже о тексте. Там два вокалиста, и видеоряд к проекту будет базироваться на видеосъемках с меньшим количеством генератива и абстрактной графики. Музыка Gesprochen, соответственно, тоже менее абстрактная. Название проекта с немецкого переводится как «высказанное».
— Какую природу имеют звуки в вашей музыке — в концептуальном и техническом плане?
— Я предельно далек от использования field recordings («полевые записи» — записи природных и урбанистических звуков, созданные за пределами студии, — прим. Enter) и довольно давно отмел идею работать таким способом. Я использую много разных синтезаторов, поскольку у меня большая модулярная система, плюс к этому еще есть более традиционные синты, например, Korg Mono/Poly, Roland Juno или Dave Smith Evolver. Я, скорее, сторонник атональной музыки, мелодии — это не совсем мое. Я вдохновляюсь индустриальной музыкой и rhythmic noise. Один из моих самых любимых электронных проектов — Emptyset. Я не копирую их саунд, но однажды он очень вдохновил меня на поиски и эксперименты. Мне близок именно шумовой подход и извлечение сложного, или комплексного (колебание, характеризующееся наличием более чем одной частоты, — прим. Enter) звука на основе не-мелодических и непростых ходов.
— Есть ли в вашей музыке место для репетиции? Или PRCDRL в большей степени про импровизацию?
— Все зависит от проекта. То, что я играю сейчас — наполовину импровизационный лайв, он носит гибридный характер: я использую достаточно много Ableton Live, который пропущен через модулярную систему. После длительных экспериментов с чистой импровизацией я пришел к тому, что мне важнее делать предсказуемый звук, имеющий собственную фактуру и лицо, хотя, конечно, клево угорать на площадке от собственной возможности генерить какой-то саунд живьем. У меня сформировался собственный pipeline (процесс разработки, программный конвейер, — прим. Enter) или подход к тому, как это можно делать, поэтому большого количества репетиций не требуется. Естественно, каждое выступление приносит определенное откровение и опыт и является репетицией для последующего. Иногда я спонтанно джемлю в студии — играю час-другой. Но когда работаю с кем-то в компании, репетиция необходима. Опять же, перед предыдущим выступлением Gesprochen в Москве мы несколько дней репетировали в студии у друзей для того, чтобы отработать какие-то ходы — например, работу живого голоса, потому что пока для меня это сложно.
— Ваш подход к музыке меняется в зависимости от того, где вы находитесь? В частности, повлиял ли переезд Берлин на ваш звук?
— Да, я радикально изменил звук и подход. Так исторически сложилось, что после переезда я оказался в некотором смысле в вакууме: если в Москве у меня была своя промо-группа и какое-то движение вокруг нее, и я так или иначе находился в плену некоего московского саунда, то в Берлине у меня появилась возможность чистого поиска, не привязанного ни к чему. Плюс, наверное, сыграла роль наслушанность, которая возникает, когда ходишь на большое количество разноплановых ивентов и расширяешь свой кругозор — в этом отношении Берлин, конечно, предоставляет лучшие условия в мире.
Я думаю, что ценность этого города не в вечеринках и вседозволенности, и даже не в свободе, которая мне, конечно, очень импонирует, а в возможностях для музыканта. В Москве или даже в Петербурге, где уровень рейв-культуры получше, все равно существуют сложности из-за того, что артистов нужно откуда-то везти. В Берлине же живет куча авторов или просто играет за гораздо меньшие деньги, постоянно действует ротация, и это очень воспитывает.
Плюс, когда в гости приходят разные музыканты, а ты ходишь к ним и получаешь фидбэк, это очень помогает развиваться. Я должен сказать, что в Берлине мой звук окончательно сформировался, но далеко не сразу — с тех пор прошло довольно много времени.
— Вы начали говорить о своей промо-группе в Москве. Можете подробнее рассказать об этом?
— Вначале это носило характер более чем спонтанный, но со временем домашние вечеринки переехали в небольшие локации, а последнюю я делал в Arma17, еще старой. После этого я уехал в Берлин. Мы приглашали много локальных музыкантов, предпринимали попытки делать какие-то недорогие привозы. Хочу сказать, недорого — не всегда означает некачественно, просто иногда артисты находятся в стороне от мейнстрима по тем или иным причинам. Первый привоз, который мы сделали, был DADUB, который только-только начал подниматься на лейбле Stroboscopic Artefacts. Попытка подготовить свой liveact к этой пати на меня произвела неизгладимое впечатление — я глубоко врубился в даб-техно, а потом мне пришлось очень долго от него в своей музыке избавляться (смеется, — прим. Enter). А на последней вечеринке на Arma вообще было десять приглашенных артистов. Не все из них были теми, кого я хотел привезти, потому что процесс организации связан с переговорами с Arma, бюджетом и кучей других тонкостей, но лайнап получился хороший.
— При создании визуального материала вы применяете генеративный дизайн, в котором часть процессов делегируется компьютерным технологиям. Насколько в этом случае уместно ставить вопрос об авторстве?
— Я думаю, что с авторством все в порядке, поскольку машина ничего не генерит сама. Весь генератив заключается в том, что ты не создаешь анимацию на 100% руками, а привязываешь события, происходящие в визуальном материале, к интерактивным событиям, приходящим из музыки — типа ударов бочки.
Даже в работе с нейронными сетями, где, казалось бы, графика реально создается искусственным интеллектом, авторство остается за человеком, который всю эту систему пасет. То, что будет выдавать эта сеть, на 90% зависит от селекции картинок, которую автор скормил ей на обучении, и того, как он ее взломал. Одна и та же система, если человек не использует готовый пресет, произведет радикально разные результаты в руках разных авторов. Генеративный дизайн скорее является автоматизацией или возможностью интерактива, чем делегированием машине креативных полномочий.
— Как происходит взаимодействие между аудио и видео на ваших лайвах? Поскольку вы уходите от ритма, то не можете использовать его как связующее звено между звуком и визуальной частью.
— Нет-нет, про ритм я этого не говорил, с ним все в порядке. Я люблю танцевальную музыку, люблю, когда валит быстро и жестко. Действительно гораздо сложнее придумывать аудиовизуальные взаимодействия для эмбиента, потому что финальному зрителю, конечно, будет непросто отследить взаимосвязь между видеорядом и звуком, если нет каких-то четких акцентов. Это совершенно логично и естественно. Я делал не так много эмбиентных выступлений, в которых был видеоряд, поэтому в основном использую традиционный подход, когда берутся миди-ноты конкретных музыкальных событий — типа ударных — и ими определяются какие-то действия в видеоряде.
В том случае, когда я делаю визуальный ряд для кого-то, бывает сложнее репетировать и до чего-то договориться, поэтому зачастую приходится использовать просто анализ звука. Но с собой договориться гораздо проще, поэтому я беру чистые данные и работаю с ними.
Что касается непосредственно самого лайва, то тут, как говорил Пелевин, понимание приходит с опытом. Чем больше играешь, тем интуитивнее это делаешь, и в какой-то момент начинаешь спокойно себя чувствовать и перестаешь париться о том, что происходит в системе. Это вопрос опыта, а также настроения, которое создается во время мероприятия.
— Вы говорили о том, что вам нравится танцевальная музыка, но при этом играете вещи гораздо более сложные для танцев в общепринятом понимании этого слова.
— Мне хочется, чтобы люди танцевали, у меня нет цели нагнать «умняка», заставив всех сидеть с мрачными лицами. Конечно, бывают фестивальные ивенты, которые нацелены на сидячее прослушивание, в них тоже есть своя прелесть. Но я еще не наигрался в рейвы настолько, чтобы перейти полностью на сторону «умняка», и мне нравится заставлять людей танцевать более сложным саундом.
У того же Emptyset я наблюдал ситуации, когда первые минут десять танцпол просто врубался, что за трэш происходит, а потом вдруг начиналось неистовое веселье. Люди просто вникали в этот звук, более сложный, чем, например, у Chris Liebing. Тем не менее, я ощущаю необходимость флоу и единения с публикой. Мне нравится, когда люди танцуют.
— Если я правильно понимаю, вы не практикуете «альбомный» формат релизов. Вместо этого у вас на SoundCloud можно найти десятки пронумерованных подкастов. Интересно, в каких еще форматах может жить музыка, подобная вашей?
— На самом деле лайвы, которые я сейчас играю, созданы на основании треков. В каждом исполнении живьем они звучат, с одной стороны, по-особенному, с другой же, прослеживается, что это конкретная вещь. Я не против релизов — наоборот, очень даже за, но мне не хочется издаваться на непонятных цифровых носителях ноунейм-лейблов. Сейчас я не тороплю коней и просто хочу немного подождать. Достойный материал должен быть издан в достойном месте.
Другой вопрос, конечно, в том, как издаваться. К примеру, если произведение задумано как аудиовизуальное — на виниле такое невозможно издать просто технически. Готового и открытого решения нет. Возможно, релиз может сочетаться с онлайн-форматом или с чем-то еще — не знаю, что сейчас к этому максимально подходит. Это пока нерешенный вопрос, актуальный, правда, не для всех моих работ, а только ряда композиций.
— Композитор Джон Кейдж говорил: «Многие собирают музыку, которая им нравится, и окружают себя ею. Я делаю наоборот: я не держу музыки рядом, у меня есть шум». А вы слушаете музыку в свободное от ее создания время? Какая она?
— Я слушаю достаточно много музыки, обязательно делаю это дома, на хорошем звуке, хотя у меня пропало желание заниматься этим 24/7, как в юности. Иногда могу целый день просидеть в тишине. В основном я использую SoundCloud, подписываюсь на интересующие меня подкасты. Но я не диджей, поэтому у меня нет необходимости плотно отслеживать новое. В последнее время слушаю много эмбиента или пост-индастриала гораздо больше, чем техно. Раньше это часто были Einstürzende Neubauten и все их сайд-проекты, еще Coil. Плюс много эмбиент-подкастов. Все это можно посмотреть в моих подписках на SoundCloud.
— За кем вы еще следите?
— Я подписан на огромное количество художников. Есть такой проект — Denial of Service, английский чувак, который долгое время меня инспирировал тем, как обрабатывает генеративными эффектами живое видео. Увиденное у него натолкнуло меня в прошлом году на эксперименты со съемочным видеоматериалом, который при помощи генеративной обработки доводится до определенного уровня абстракции, но все равно остается кинематографичным. Это тот подход, который мне сейчас наиболее близок. Тот же Emptyset делает крутейший видеоряд. В то же время я не трачу время в поисках каких-то референсов — они сами откуда-то валятся.
— Чего ждать на вашем предстоящем казанском выступлении?
— Это будет жесткое индустриальное месилово!
Фото: partyflock.nl, polymus.ru
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях.
В конце марта у Егора Плотникова в казанской ГСИ открылась выставка «Минута до пробуждения», в которую вошли живописные работы, в том числе написанные по мотивам его путешествия в Свияжск. Куратором проекта выступила московский историк искусства Наталия Панкина. Enter встретился с художником, чтобы обсудить актуальность живописи, главную черту русской культуры и очарование «пустых» мест.
Егор Плотников родился в Кирове в 1980-м году. В 2006 году окончил Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова. Участник выставок с 1994-го в России, Италии, Бельгии, Англии, Германии, США, Дании, Швеции. Плотников работает в области фигуративной живописи и скульптуры, которые зачастую представлены в виде комбинированных произведений и инсталляций.

«Спящий» зритель, цифровая реальность и русский пейзаж
Главный персонаж выставки «Минута до пробуждения» — скульптура «Спящего» — это каждый из нас. Вместе с тем «Спящий» близок к роденовскому «Мыслителю», а еще он похож на радикальный субъект Хайдеггера, который тоже задремал. Возможно, мы сможем проснуться и снова посмотреть на пространство и искусство, которые нас окружают. Моя выставка об этом.
Я живописец, но уже лет семь занимаюсь скульптурой. Я начал с небольших экспериментов с рельефами, мелкой пластикой, но постепенно занятие стало затрагивать и живопись: персонажи моих картин «вышли» из пространства холста, встали рядом с нами — зрителями, развернулись и начали смотреть на живописное полотно. Они обрели двойную функцию: остались объектом, но стали субъектом. Моя скульптура — персонаж и зритель одновременно. Этот «промежуточный» герой, который становится проводником в пространство картины и в пространство искусства, стал появляться у меня во многих работах в разных версиях. Вот одна сторона моего творческого процесса.
Другая сторона — взаимодействие круглой монохромной скульптурной формы (круглая скульптура — не привязанная к стене или колонне; та, которую можно обойти — прим. Enter) и плоской живописной поверхности. Я обращаюсь к их взаимодействию, потому как два самых древних, и, казалось бы, всем знакомых и понятных жанров изобразительного искусства, живопись и скульптура, на самом деле очень сложно воспринимаемы современным зрителем. Я думаю, так происходит из-за того, что мы живем в цифровой реальности, в постоянном движении, нескончаемом информационном потоке. Нам все сложнее воспринимать статичную молчаливую картинку и простую неподвижную форму.



Меня волнует следующий вопрос: что на самом деле видит зритель, когда смотрит на картину? Конечно, он видит знакомую форму искусства и знакомый предметный мир, но видит ли он саму живопись? Есть пейзаж Саврасова и есть пейзаж, очень похожий на саврасовский, который продается на Арбате, и между ними — космическая разница. При том, что вроде бы все одно и то же: материалы, формат и даже сюжет.
Я выходец из академической школы, и, естественно, работал с пейзажем во время учебы долгие годы. Для русского искусства это вообще центральный жанр, и в то же время он сейчас оказался на периферии культурного поля. Я часто слышу вопросы: «Как можно сейчас писать пейзаж? Какое отношение он имеет к современному искусству?»
Телесность, самый «музейный» жанр и призрак коровы
Один из трендов современного искусства — телесность. Произведения знаменитых мастеров Лондонской школы вроде Люсьена Фрейда и Фрэнсиса Бэкона и ключевых молодых живописцев — Дженни Савиль, например, — хорошее тому подтверждение. Ведь это очень древняя традиция. Та самая Венера из Виллендорфа очень близка к тому, что делается современными авторами. И все мы продолжаем жить в том же самом теле.
И точно так же с пространством. Мы продолжаем жить в нем: на небе бегут облака, дует ветер, падает снег, текут реки. Конечно, пространство меняется, и изменения зачастую неочевидны. Сегодняшний пейзаж похож на Левитановский, но все-таки он другой: дорога очищена от снега грейдером, оттого создается совсем другой след; вместо колокольни — вышка сотовой связи.
Или еще одна примета: исчезнувшее стадо. Сейчас есть агрохолдинги, но, проезжая мимо каких-нибудь полей, мы почти не видим одиноких коров. Происходят какие-то парадигмальные изменения жизни человека на Земле, но не потому что он все разрушил или погубил, а просто настало другое время. Поэтому белая одинокая корова на фоне огромного пустого зеленого луга — просто фантом. Она присутствует, но перед нами, скорее, идея коровы.

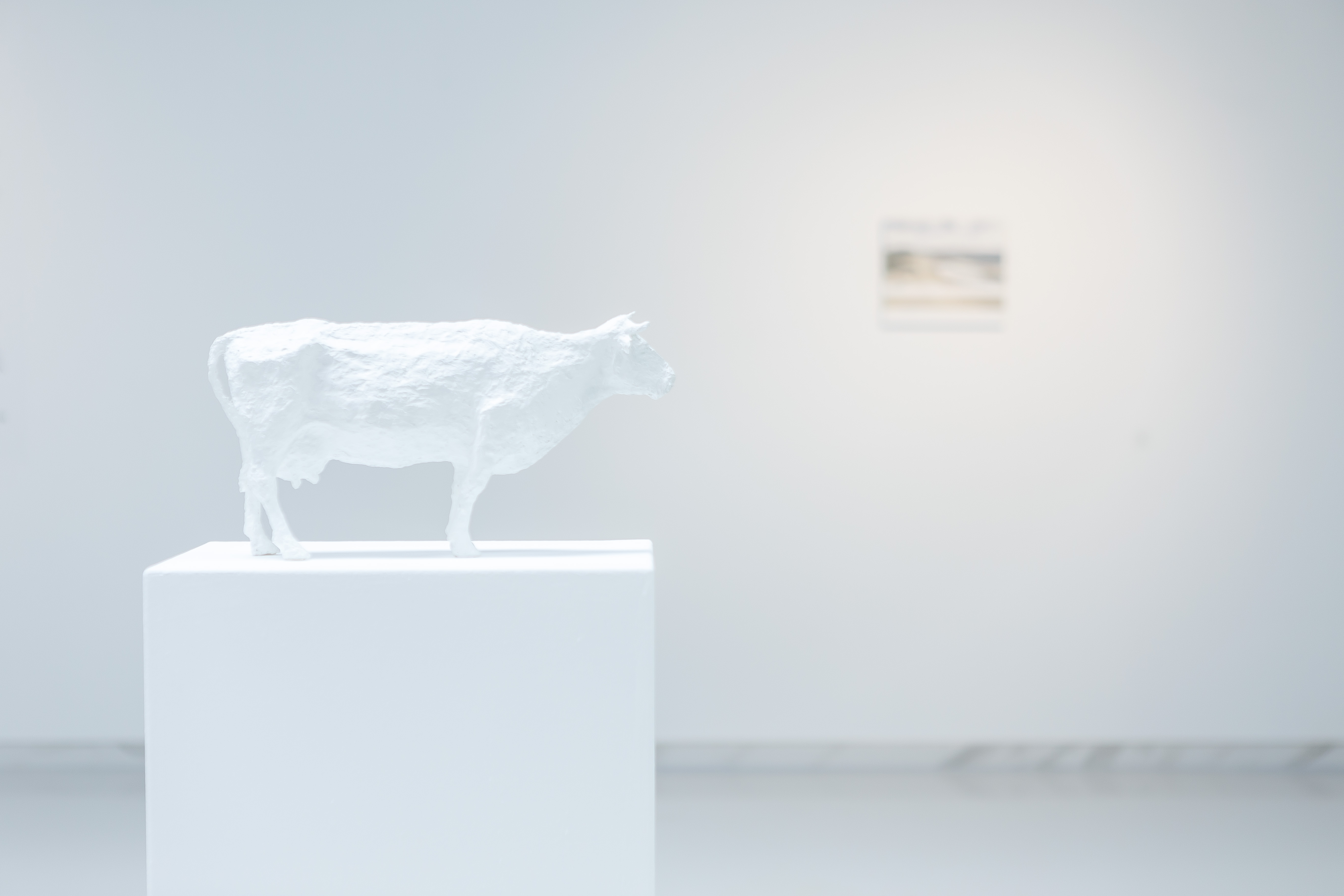

Пейзаж — действительно самый «музейный» жанр, но в какой-то момент я нашел для себя одну из основных задач: реабилитировать его в области современного культурного пространства. Мне за него обидно, так сказать. Я работаю с ним и пытаюсь понять, как он может существовать. А ведь как-то может — какими-то фрагментами, например. Я понимаю, что исчезло наше панорамное зрение. Все мыслят экранами, фрагментами, скользящими картинками. Мы перестали видеть как человек XIX века: он неспешно наблюдал панораму, путешествуя на своей повозке, или разглядывал виды из окна дома. То же самое в искусстве сейчас: мы движемся с другой скоростью, мы живем в экране, и потому видимый пейзаж распадается на фрагменты — что-то исчезает, что-то ускользает от нас, что-то забывается. Он сменяется неравномерно: сегодня мы находимся в зимнем русском лесу, а послезавтра — на атлантическом побережье Испании. Таков наш внутренний целостный пейзаж, наша панорама состоит из «кусков». И все это появляется в моих работах.
Я думаю, что диалог художника и зрителя — очень важный момент. Важно не просто открыть выставку картин, скульптуры или видео, а рассказать об этом зрителю. И еще важнее — как именно ты расскажешь. Диалог сегодня, возможно, важнее, чем когда-либо, потому что человек находится в постоянном информационном передозе.
Тоска по местам, где никогда не был
Места, которые я пишу, находятся на грани человеческого обитания и дикой природы. Мне говорили: если долго рассматривать мои полотна, то возникает чувство тоски по местам, которые там изображены, хотя зритель мог никогда в них не быть. Я очень радуюсь, когда все именно так воспринимается. Это действительно главное чувство, которое я испытываю по отношению к реальному пейзажу или месту, оставленному человеком, такому обочинному и периферийному. Оно вроде бы рядом, но оно никому не интересно: мы не отправляемся туда специально, чтобы увидеть его, все время проезжаем где-то мимо.
Хотя подобные места всегда находятся рядом, но остаются как будто ненужными. Вместе с тем они прекрасные, родные. Некоторые, глядя на мою живопись, вдруг узнают или пытаются вспомнить эти ландшафты, потому что в моем искусстве действительно много каких-то типичных мотивов. Чувство жалости к человеку и к месту — очень характерная черта русской культуры. И живописной, и литературной.
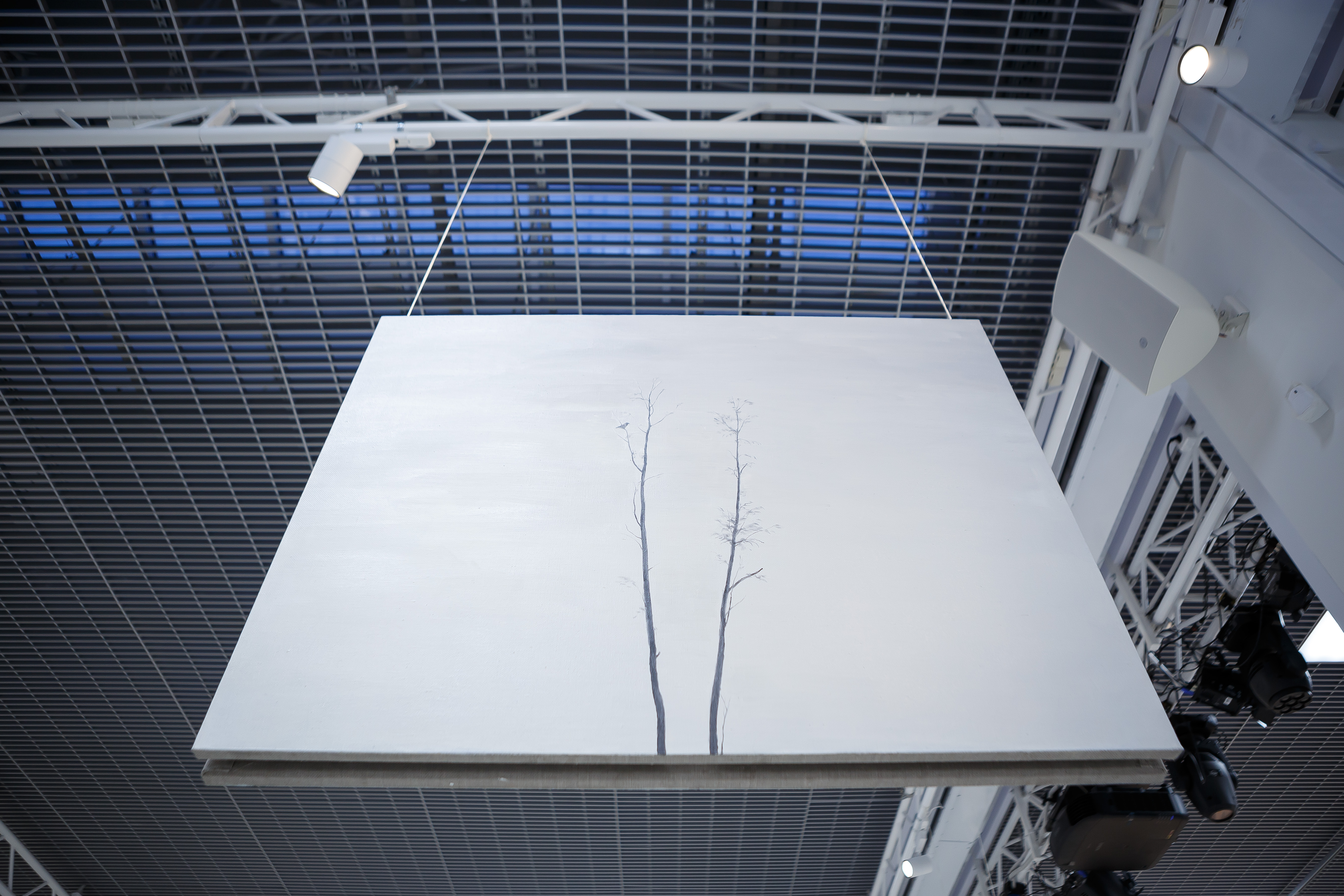

Главный русский пейзаж — «Грачи прилетели» Саврасова — самая жалостливая, мне кажется, работа вообще (смеется, — прим. Enter). Художник изображенное место страшно любит и жалеет. В финском языке есть специальное слово, описывающее чувство тоски по местам, где ты никогда не был — каукокайпу (kaukokaipuu, — прим. Enter). Круто, что такое слово у них есть, и жаль, что у нас его нет. Нужно его перенять.
Завораживающие «пустые» места и сюжеты из окна машины
Мой процесс выбора мотива и сюжета — спонтанный и интуитивный. Он зачастую основывается на вспышках впечатлений, внезапных и случайных. Я редко могу специально поехать в какое-то место для выбора тем. Мои сюжеты — то, что проскальзывает где-то рядом, внезапно из окна поезда или машины или на прогулке в дальних путешествиях. Мотивы копятся, и среди них есть такие, которые не отпускают — они просто просят, чтобы ты с ними что-то сделал. Потом, когда выстраиваются ряды фрагментов реальности в сознании, то оказывается, что в них есть некое общее качество. И оказывается, что это периферийные зоны между жизнью человека и природы, граница, которая стала пустырем, и, возможно, она когда-нибудь зарастет. Территории такого рода можно еще назвать лимбом (согласно термину художника и географа Николая Смирнова) или «не-местами», которые потеряли свое назначение.
Вот природа, а рядом находится дорога, обозначающая присутствие человека. И в таком ландшафте возникает определенное напряжение, потенциал к изменению. Этот момент напряженного, затянувшегося ожидания — наиболее характерная черта нашего времени. И непонятно, чем оно завершится. Напряжение нагнетается все время, в таком пространстве оно выражено даже без присутствия человека и внешних знаков. Его чувствуешь кожей, когда попадаешь в такие точки, и это ощущение меня завораживает. Я продолжаю работать, снова и снова оказываясь в некоем «пустом месте» (так даже называлась моя предыдущая выставка в галерее «Триумф»), и снова и снова развивая сюжет.
Шаманские наряды, или когда искусство выходит из-под контроля
Фигура «одинокого зрителя» (один из центральных персонажей работ Плотникова, представлен в виде белой скульптуры, — прим. Enter) у меня иногда приобретает самостоятельность и начинает перемещаться довольно хаотично. Мои скульптуры могут выйти из-под контроля автора и вести себя совершенно независимо.
Например, сейчас идет выставка в Музее декоративно-прикладного искусства в Москве «Таймыр. Гений места». Это было неожиданное приглашение для меня. На выставке представлено традиционное искусство Таймыра: резьба по кости, шаманские наряды, бубны, божества. И неожиданно куратору проекта показалось, что мои скульптуры могут вступить в диалог с их тотемами. Получился интересный и неожиданный опыт.

Мне еще запомнилось, как к нам в мастерскую на несколько дней приехали скульптуры художника и нашего хорошего друга Ивана Горшкова, искусство которого мы очень любим. Картина вырисовывалась следующая: стоят его большие железные персонажи, цветные, раскрашенные, экспрессивные рядом с моими белоснежными хрупкими фигурками. И получился, по-моему, какой-то потрясающий диалог, я не мог насмотреться: ощущение, что они просто общались, было супер. Поэтому я за всяческие эксперименты и взаимодействия.
Почему скульптура должна быть белой
В искусстве для меня важен момент дистанции. Поскольку в моих работах есть пространственный пейзаж и узнаваемая фигуративная форма, то возникает опасность впасть в иллюзорность, сделать из них «обманку». Такой путь возможен, но он не мой. Для меня всегда важна дистанция, когда есть мера условности и работа не уходит в натурализм: живопись остается живописью, а скульптура — скульптурой. Именно поэтому «одинокий зритель» или «спящий» — белого цвета, поскольку мы привыкли видеть скульптуру белого цвета (хотя мы знаем, что античная скульптура в первоначальном виде была раскрашенной).
У меня есть и разноцветные, но, как правило, они самостоятельные, не зависящие от живописи. А в столкновении круглой монохромности пластики и плоской живописности важно то напряжение, которое оно вызывает у зрителя.
Не отпускающий ландшафт пляжа «Локомотив» и Свияжск
Моя поездка в Казань в 2018-м году была короткой, но очень содержательной. Конечно, изначально она задумывалась технической, и задачи предпринять психогеографический дрейф не было, но он так и должен возникать — сам собой. Мне хотелось раствориться хотя бы на один день в местном пространстве, почувствовать его. Я бывал в Казани пару раз, но больше в местах достопримечательных. А тут мы прогулялись по пустынной набережной пляжа «Локомотив», который меня вдохновил — думаю, о нем еще будут возникать какие-то работы. Это как раз такая неосвоенная зона внутри насыщенного городского пространства — ровно то, что меня интересует.


Также ездили в Свияжск. Мы еще были в основном здании музея ГМИИ РТ, там увидели замечательную работу И. И. Шишкина «Обрыв», и она меня очень заинтересовала, поскольку это довольно редкий сюжет. Я решил, что, вероятно, изображенное место находится где-то в районе Елабуги с высоким обрывом. И когда ехали в Свияжск, тоже видели вдоль дорог похожие обрывы. Они меня заинтересовали, и я подумал, что можно с помощью них вступить в диалог с Шишкиным. А потом мы оказались в Свияжске, и попали в промежуточный момент, когда остатки льда бились о берег, светило яркое весеннее солнце, а пронизывающий ледяной зимний ветер гнал весенние облака. Был такой яркий, бурный день.
Благодаря ему появились две работы, которые есть на выставке. Одна называется «Ветреный день». Оба созданных произведения означают две оконечности нашего путешествия в Свияжск: вертолетная площадка и противоположный берег. Подобные спонтанные встречи с пространством потом складываются в ряды и каким-то образом могут зарифмоваться с пейзажем Шишкина, например (хотя в проекте «Минута до пробуждения» это не нашло прямого применения, но тем не менее). Так возникают важные взаимосвязи, благодаря которым искусство оживает, а пространство оживает благодаря впечатлениям от произведения. Поскольку я родом из Вятки (Киров, — прим. Enter), и Татарстан это, фактически, соседний регион, то многое мне знакомо и понятно. Для меня все вокруг почти родное, но в Казани какой-то другой масштаб, другие особенности рельефа — такие тонкие различия ощущаешь и воспринимаешь как новое впечатление.
Казань отличается от Кирова большим масштабом, размахом. Вятский ландшафт же более «плавный», а местный, как мне показалось, более «изломанный».
Несмотря на то, что мои пейзажи зачастую «пустые», человек все же влияет на них. Изображаемые мной пространства сформированы при его участии, его предыдущим присутствием или нежеланием присутствовать. Я занимаю, скорее, позицию наблюдателя и констатирую время. Мне важно почувствовать это, а не дать оценку. То, что попадает на мой холст, — социальный ландшафт и образ человека без его присутствия.


Эстетика в искусстве и залипания перед пейзажами
Я художник пластической культуры, для меня принципиально важен выбор материала, с которым я работаю, и то, как материал скульптуры или живописи выражает себя. Сейчас вопрос эстетики может сниматься или отменяться, но дискуссия все время продолжается. Но для меня эстетика очень важна. Я получаю искреннее удовольствие от работы, или, наоборот, переживаю или мучаюсь, когда что-то не получается. Бывают кризисные моменты, которые на самом деле очень полезны для художника. Я хожу в музеи и могу бесконечно залипать перед какими-то пейзажами — ничего не могу с этим поделать.
Когда идешь через огромный Лувр, на тебя сваливается все мировое искусство мегатоннами, оно бомбардирует со всех сторон, и вот ты уже вползаешь на четвертый этаж в зал Камиля Коро и понимаешь, что не можешь уйти от маленьких скромных пейзажей или маленьких шарденовских натюрмортиков размером с ладошку. Они просто держат тебя. Ты прошел уже все, но почему так происходит? Вот медный ковшик и кусок засохшего хлеба на столе — почему они такую бурю чувств вызывают? Не иначе как магия.
Разное искусство решает разные задачи, и это разное может сосуществовать друг с другом. Дело в убедительности того, как произведение решено, и каком-то прозрении, которое удалось художнику зафиксировать — вот что в конечном счете важно.
Как художники все успевают
В последнее время все движется как-то по нарастающей: выставок с моим участием становится все больше, порой бывает ощущение, что вообще не успеваешь работать в мастерской, хотя находишься там, помимо каких-то перемещений, все время. Порой несколько дней не можешь дойти до мольберта, который стоит рядом, потому что ты должен решать организационные вопросы, принимать гостей, поддерживать общение.
Но такова жизнь современного художника. Организационные вопросы — такая же часть работы, как работа за мольбертом. При этом важно не потеряться, не стать менеджером самого себя, и остаться художником в первую очередь. Искать равновесие порой бывает нелегко — самодисциплина очень важна. Ведь ты сам себе директор и можешь проваляться на диване целый день или два, тебе никто ни слова не скажет.
У меня после института возникло ощущение, что если сейчас не взять себя в руки, не создать режим дня, ритм работы, то можно раскиснуть, а потом будет сложно организовать себя, сложно планомерно работать. В такие моменты нужно просто поверить в то, что ты — художник, и то, что ты делаешь — важно. Несмотря на то, если твои работы не интересны никому, кроме тебя самого и нескольких твоих близких друзей. Ты должен копать эту грядку. И, как выясняется, такая долгая работа оказывается нужна и интересна, и тебе нужно удержаться, чтобы продолжать работать серьезно. Это дается не всем художникам, что довольно трагично.
Но нам легче, потому что моя жена Евгения Буравлева — тоже художник, и, хотя у нас автономное творчество и мы не работаем в формате художественного дуэта, тем не менее есть задачи, которые я могу взять на себя и помочь ей в чем-то. И Женя так же может мне помочь. И как-то складывается, что происходит то ее выставка, то моя, то выстраивается совместный проект. И это, конечно, сильно помогает. Понимание внутри семьи — подарок судьбы.
Образование для современного художника
На мой взгляд, самый полноценный вариант образования художника — совмещение двух подходов: с одной стороны, профессионального академического, с другой — базы, которую предлагают институции, занимающиеся теорией современного искусства. Это очень важно, потому что, к сожалению, наше академическое образование находится на уровне послевоенного, особенно в области теории.
Думаю, что те профессиональные навыки, которые я получил в Вятском художественном училище в 90-е годы в области рисунка и живописи, плюс обучение в художественном лицее, могли быть достаточной профессиональной базой. В институте мы продолжали развиваться, у нас был замечательный профессор Павел Федорович Никонов, прекрасный художник, одно из главных имен 60-х, и с ним был возможен диалог. А обычный образовательный процесс напоминал бесконечную тоскливую рутину, абсолютно не приспособленную к реальной деятельности современного художника в современном мире. Про теорию я молчу, потому что она там практически отсутствовала, за исключением курсов лекций отдельных преподавателей.
Так сложилось, что в тот момент я не особо понимал, что есть ИПСИ (Институт проблем современного искусства, — прим. Enter) и «Свободные мастерские» — я имею в виду годы, когда я учился в Суриковском (до 2006-го). «Винзавод» открылся, когда я закончил институт. Интернет провели в общежитие, когда мы писали диплом. Мы учились в доцифровую эпоху! И мы были выпустившимися взрослыми живописцами, которые не знают, что произошло в мировом искусстве в послевоенный период. Про отечественное искусство до 60-х у нас еще были какие-то представления, а что происходило в последующие 50 лет — в институте изучать не предполагалось.
Но зато есть другое качество, которое дало академическое образование: насмотренность в области своих жанров — живописи, пластики. Ты много времени провел за мольбертом, ты действительно погружен в материал, ты его чувствуешь, ты пропитан красками и скипидаром навсегда (смеется, — прим. Enter). С одной стороны, это твои якоря, они тебя держат. С другой — это и твоя сила, ведь ты свободно чувствуешь себя в материале. И можешь рефлексировать по этому поводу, потому что это твоя жизнь, главная ее часть. Наверное, этой рефлексией и наполнен в основном мой творческий процесс. А все остальное приходится добирать самообразованием. Я жалею, что мало читаю в силу того, что у меня совсем не хватает времени.
Зато сейчас существует множество вариантов для самообразования, даже удаленного — вроде аудиокурсов. Я хочу сказать, что образование не заканчивается, когда ты покидаешь учебное заведение. Ты учишься всегда.
Новые работы Эрика Булатова, политика и поиски своей свободы
Я видел новые работы Эрика Булатова (недавно он представил во Франции стальную скульптуру «Все не так страшно» и серию работ с надписями exit и «насрать», — прим. Enter). Я с большим уважением отношусь к нему, но, тем не менее, вижу в них довольно странную попытку показать какой-то молодой задор или изобразить то, чего не происходит с человеком на самом деле. Я не очень верю в то, что он страдает от работы, занимаясь своим делом в Париже и делая по всему миру замечательные выставки. Есть ощущение, что идея принадлежит не Эрику Булатову, а, скорее, некоему «коллективному разуму», но, возможно, я ошибаюсь. Перед нами — плакатные композиции второго курса института, которые сделаны на троечку. Не все удается, когда ты уже в зрелом возрасте… Трудно комментировать, но есть в этом какой-то диссонанс.
Что же касается связи искусства и политики, то тут можно сказать, что мой способ работы с пейзажем — тоже определенная реакция на то, что происходит. Ее можно рассматривать как позицию оставления за собой зоны свободы, потому что тебя все время пытаются затаскивать в свой «окоп», и такая ситуация больше всего угнетает. Я не считаю, что должен перед той или иной частью сообщества отчитываться о своих мыслях и взглядах и поддерживать ту или иную сторону, просто потому так конвенционально принято.
Гузель Яхина, Захар Прилепин и большая литературная форма
Я недавно прослушал книгу «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной и остался под большим впечатлением. Я сейчас очень увлечен историей России и особенно интересуюсь частью, касающейся 20-30-х годов, поскольку это память о моей семье, вятских крестьянах, которые были раскулачены и по линии отца, и по линии матери. А если говорить не только о сюжете, то для меня стало приятной неожиданностью, что молодая писательница так мощно освоила крупную классическую литературную форму. Роман Яхиной у меня зарифмовался с «Обителью» Захара Прилепина. При том что оба — совершенно разные авторы, у них есть замечательная общая черта — отсутствие назидательности.
Я наблюдаю, как большая литературная форма становится трендом, например, в Америке — та же Донна Тартт или Джонатан Франзен с его гигантскими романами, сопоставимыми по объему с «Войной и миром», и их можно объединить интересом к простому человеку.
Многое из литературы я осваиваю благодаря аудиоформату. Художнику повезло: его уши ничем не заняты.
Чужое искусство
Из последних выставок, что я видел, очень большое впечатление произвела живопись из коллекции Louis Vuitton Foundation в Париже. Кураторы проекта сопоставили разных авторов: скажем, Алекса Каца и Герхарда Рихтера. Louis Vuitton вообще, кажется, лучшее выставочное пространство, которое я видел во всем мире. Думаю, некоторые из представленных художников не могли даже мечтать о том, что когда-нибудь их девятиметровые полотна будут так прекрасно представлены в диалоге с другими авторами, и что их увидит огромное количество людей.
Другая выставка — «Пьеро делла Франческа. Монарх живописи» в Эрмитаже. Она прекрасна тем, что можно так много всего в одном месте увидеть — экспозиция собрана из коллекций нескольких стран. Тут же хочется выразить респект дизайнеру выставки Андрею Шелютто, решившему довольно сложную задачу: в огромном помпезном дворце показать живописные жемчужины, которых всего одиннадцать штук, и создать удивительный микромир. Через него сквозят арматуры стен Эрмитажа, напоминая нам об этом месте, но одновременно и уступают место живописи делла Франчески, не отвлекая от нее.
А из местных проектов я бы выделил, конечно, «Промзону» Павла Отдельнова в Московском музее современного искусства. Только так, как была создана выставка Павла, на мой взгляд и должен зреть серьезный проект: долго, внимательно и постепенно формируясь из разных экспозиций. В итоге происходит погружение в материал. «Промзона» — история семьи, история страны.
Кстати, когда-то мы вместе с Пашей делали так называемый «Индустриальный проект», с которого у него и началась работа с тем, что осталось после большого индустриального прошлого.
Еще одна важная выставка — «Новый пейзаж» в фонде «Екатерина», в которой российские художники-фотографы исследуют периферийные пейзажи. Получился очень ясный и чистый проект. Интересно, как близкие по своим взглядам авторы по-разному смотрят на похожие вещи, что становится заметно, только когда работы находятся рядом, в соседних залах. Кстати, в «Новом пейзаже» эстетика тоже занимает важное место: по-разному выстроенные кадры, разная работа с цветом, и, опять же, только собрав все работы в одном месте, ты можешь по-настоящему это почувствовать.
Преемственность в творчестве и большая тайна
Искусство и творчество — процесс эволюционный. Очень сложно спрогнозировать, что будет через десять лет. Но те вопросы, которыми я занимался, продолжают появляться в моих работах, и каждый последующий проект становится продолжением предыдущего. Зачастую я не замечаю никаких резких скачков в развитии; однако когда я смотрю на то, что делаю сегодня, и на то, что делал десять лет назад, я вижу два разных взгляда и двух разных художников. Что будет происходить дальше — большая тайна, которая очень стимулирует работу.
Фото: Кирилл Михайлов
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях.
В преддверии открытия в Центре современной культуры «Смена» выставки NO_HOW Александра Скобеева Enter встретился с художником, чтобы обсудить его новый проект, понятия пространственной верстки и работу со случайно найденными вещами.
Александр Скобеев родился в Казани в 1992 году. Учился в Казанском художественном училище, Британской высшей школе дизайна, школе «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства и школе фотографии и мультимедиа им. Родченко. Разрабатывал дизайн для изданий Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, издательского дома Сonde Nast Russia и издательства «Смена». Работает в разных медиа — от объектов и инсталляций до живописи и звука. Александр — участник выставок в Галерее современного искусства ГМИИ РТ, Музее А.Н. Мазитова, НКЦ, Галерее «Граунд.Ходынка», музее «Гараж», галерее «Триумф», Музее архитектуры и Московском музее современного искусства.
Александр — участник оркестра Moscow Scratch Orchestra. Принимал участие в концертах на площадках «Граунд.Песчаная», МСИ «Гараж, Центральный дом художника, Центральный дом архитектора, Электротеатр «Станиславский», ЦВЗ «Манеж».

Александр Скобеев
Выставка NO_HOW, вещи с забытой историей и тема памяти
— Расскажи о своей выставке в «Смене». В описании к ней говорится, что она собрана из найденных объектов. Где пролегает граница между Скобеевым-коллекционером вещей и Скобеевым-художником?
— Я слышал о том, что «Смена» планирует выставочный проект с участием молодых художников из Казани. И пока я здесь (Александр несколько лет живет в Москве, — прим. Enter), мы с Кириллом Маевским (арт-директор ЦСК, — прим. Enter) и Робертом Хасановым (основатель ЦСК, — прим. Enter) решили, что сейчас наиболее удобное и хорошее время для того, чтобы сделать выставку.
Я работаю в разных медиумах — объекты, живопись, видео, звук. И когда учился в школе мультимедиа и фотографии им. Родченко, я переживал по этому поводу, потому что язык художника — один из самых важных аспектов в его работе. Но в процессе обучения я понял, что он может приобретаться в течение всего творческого пути, и перестал колебаться по этому поводу, так что сейчас просто делаю то, что мне нравится. Это отличает работу в искусстве от работы в дизайне.
Еще летом 2018-го в Москве я начал собирать разные вещи, которые теперь послужили основой для этой выставки. Когда коллекционирую объекты — а я люблю это делать — то сразу думаю о том, как можно их преобразовать. В конце концов понял, что мне просто нравится собирать, ставить и смотреть, как они выглядят. И я подумал, что это искренне и этим можно ограничиться. Не стоит искать большего, нужно просто принять то, что есть, и работать с этим.
Вообще коллекционированием вещей я занимаюсь довольно давно. Мы ведь все так или иначе коллекционируем — книги, журналы, картинки, тексты и выполняем работу некоего архивариуса. Со временем этих предметов становится много, постепенно начинаешь понимать, во что это в целом выливается и как на это смотреть. Поэтому грани между ролью коллекционера и художника в моем случае никакой нет. Для меня это большое удовольствие — где-то намеренно или случайно найти вещь и представить ее в ситуации того, что я делаю. Процесс создания какого-то целостного произведения и процесс сборки — одинаково важные и приятные для меня.








— Что нужно знать зрителю, чтобы смотреть на твои работы?
— Когда я слишком много начинаю думать о том, что бы подумали люди о моем творчестве, мне начинает не нравиться то, что я делаю. Это не закономерность, это, скорее, личная черта. В итоге процесс превращается во что-то не совсем приятное. Если честно, я стараюсь не думать о том, какие могут возникнуть ассоциации и образы, когда зрители смотрят на мои работы.
Конечно, есть художники, которые преследуют определенную идею, и в таком случае все понятно: зритель ее либо прочитывает, либо нет. Конечно, отсутствие концепции — это сейчас тоже концепция, но я стараюсь не думать о том, будет она у меня или нет, а просто делаю, как нравится. Есть еще один важный момент: я не признаю искусство самовыражения и стараюсь создать объект обезличенный. То, что я делаю, это абстрактное искусство. Я работаю прежде всего с восприятием, поэтому все довольно субъективно.
Например, лично меня привлекает вид этих найденных предметов, а у других людей он, вероятно, не вызовет никаких эмоций. Вещи, которые я расставляю — продукт какой-то особой внимательности. Я бы даже сказал чрезмерной внимательности к довольно незначительным свойствам объекта: к соотношению его размеров, изломам его граней. Габариты объекта определяют его нахождение в композиции. Я создаю массы разных комбинаций и строю их на тонких нюансах, которые, в свою очередь, обусловлены свойствами объекта. Они могут не вызвать никаких эмоций, и это даже, скорее всего, будет правильно. Не ждите, что это может вас впечатлить. Впечатлений может не быть никаких (смеется, — прим. Enter). В принципе, это равнозначно выставке, материал которой составляет только текст. И к нему можно внимательно подойти, детально изучить его или просто проскользить по нему взглядом.
Иногда иду по улице и вижу: кто-то выставил стекла. Это всегда неожиданно, ведь еще вчера здесь еще ничего не было, а сегодня появилось какое-то месторождение стекла (смеется, — прим. Enter). Мне нравится, что это происходит случайно. Для своих работ я не выбираю размер стекол, которые нахожу. Что-то обуславливает их габариты, конечно, но я никогда не знаю, какую функцию раньше выполняли эти стекла. Мне остается только догадываться. Кто-то смотрел, может быть, через эти стекла всю жизнь. А теперь они стоят здесь, и никто их не узнает.
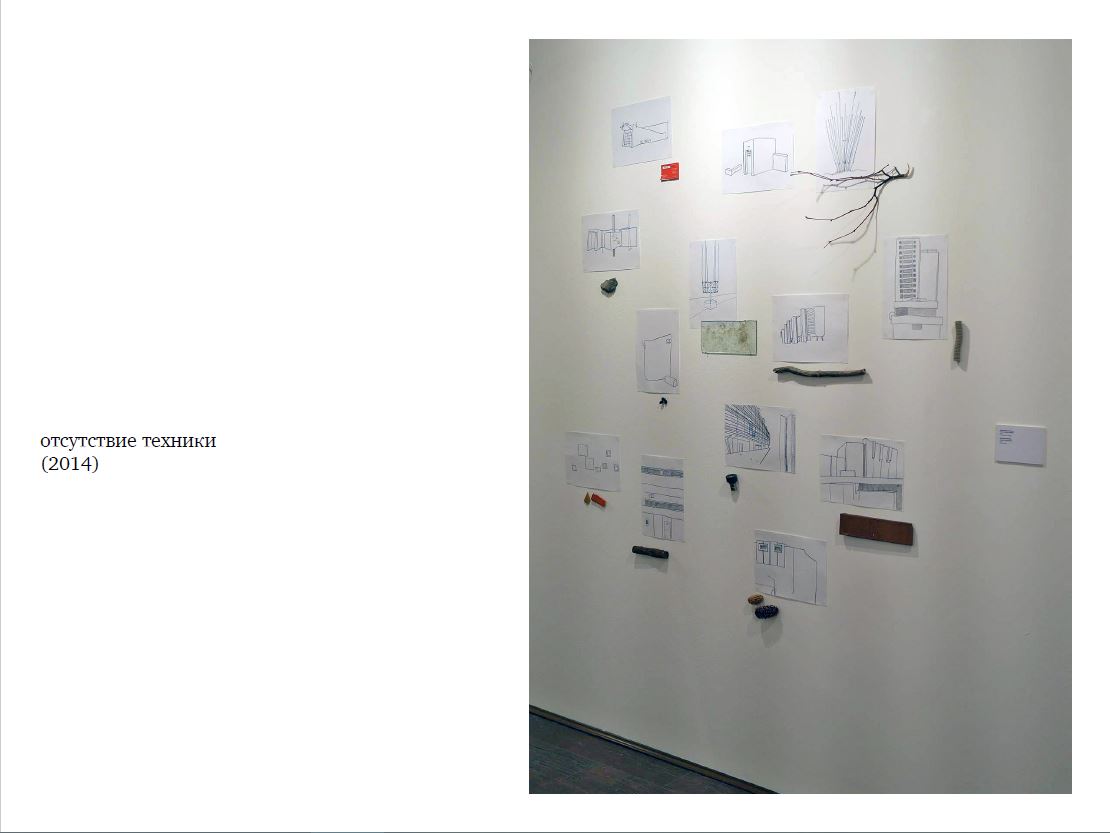
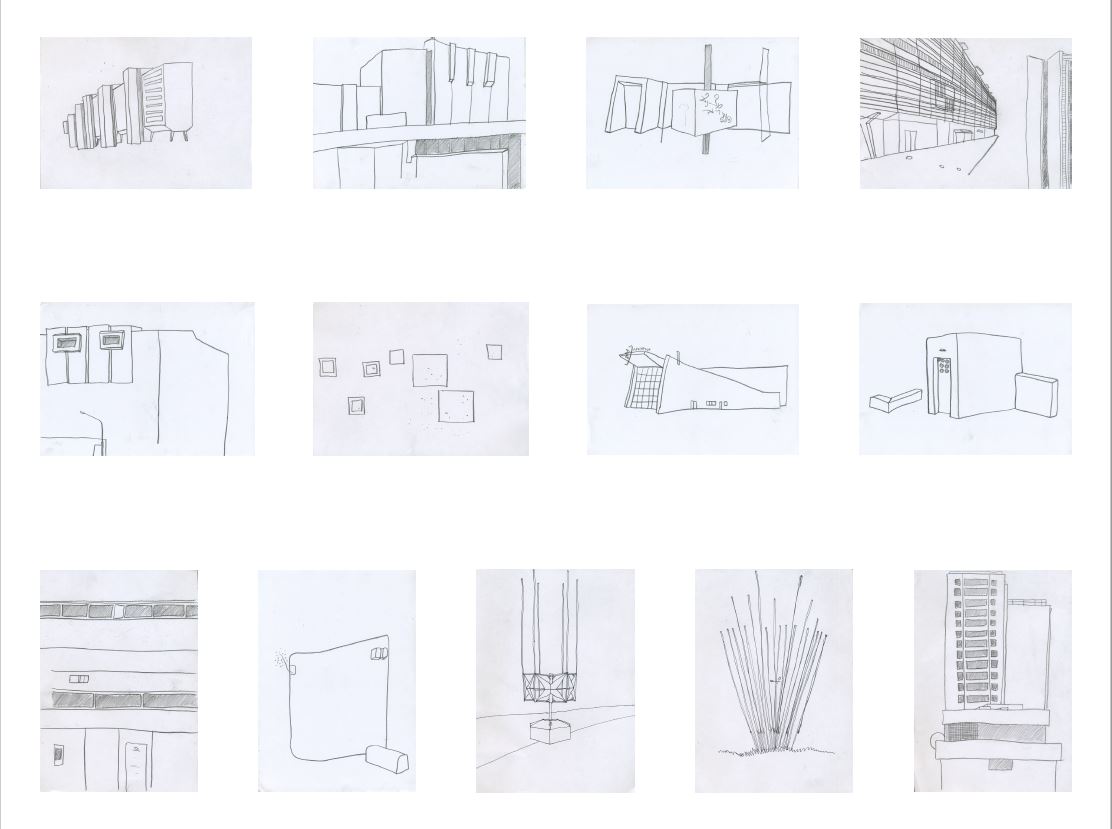
— Многие современные художники работают с темами личных переживаний и памяти (вспомнить, к примеру, недавнюю успешную выставку Павла Отдельнова «Промзона»), твои же работы на этом фоне кажутся несколько отстраненными. Ты лишаешь вещей их истории, чтобы создать более универсальное высказывание?
— Я видел выставку Отдельнова только на фотографиях, но, судя по всему, она была классной. Я думаю, что можно сравнивать нас, потому что мы существуем в одно время, в одном пространстве, поэтому все, что создается, поддается сравнению, и это абсолютно нормально. У всех моих вещей тоже есть какая-то история, но я могу сказать об этом только одно: я не знаю, что было до того момента, как я их нашел. При этом все эти объекты довольно одинакового формата. У них была разная жизнь, и мне нравится их обезличивать, создавая из них массу. Каждый из них в этом случае теряет индивидуальность и приобретает общий характер. И эта общая масса абстрактна, как и ее элементы.
Использование темы личного в искусстве кажется мне довольно легким путем: люди очень зависимы от ностальгии, и нет ничего проще, чем вызвать в них это чувство. Я же хочу от этого уйти. Я сам вообще-то подвержен ностальгии, и это какой-то страшный бич нашего времени.
— Есть ощущение, что твои световые инсталляции отсылают к эстетике американского минималиста Дэна Флавина. Свет в твоих работах тоже создает новую архитектуру в старом пространстве?
— Мне близок американский минимализм 60-70-х годов. И вообще-то это ветвь, которая идет немного стороной от художественного мейнстрима. Есть еще один художник — Джеймс Таррелл, он для меня больший референс, чем Флавин. Они с Флавином похожи, оба работают со светом, но очень по-разному. Я однажды попал на выставку Таррелла в еще старом «Гараже». Не могу сказать, что впоследствии осознанно стремился сделать нечто близкое к Тарреллу, но потом пришел к точке, в которой для меня свет стал материалом, формирующим пространство.
То, чем я занимаюсь, готовясь к выставке, — довольно бытовые операции, то есть какая-то механическая работа: вытащить стекла из рам, очистить их, рассмотреть. Далеко не всё из того, что я нахожу, становится частью моей выставки. Такой способ работы бодрит — мне нравится получать новые технические навыки.
Что касается света, то он, конечно, задает настроение. Мы ведь по-разному чувствуем себя в пасмурный и солнечный дни. Так что свет — это важный фон. Но не только: еще это равноценная часть большой работы, в которой все массы соединяются в одно, и поэтому на выставке не будет никаких этикеток.
Еще одна из таких более модных тенденций, чем минимализм 60-х, это работа с микро- или макроэкосредой. Причем ей может быть что угодно: улица, галерея, жилая квартира, и ты в их рамках создаешь какие-то процессы, выстраиваешь то, как будешь там себя чувствовать. Эта тема увлекает меня давно, еще с самых первых моих работ, когда я делал так называемые «коробки» — объекты, ограничивающие окружение человека и внутри которых можно создавать свою среду. На это можно смотреть шире, и от «коробок» идти к другим пространствам — например, проходу в торговом центре.
— Когда ты на недавней групповой выставке «Я так не работаю» рассказывал про свои инсталляции, которые были интегрированы в твое жилое пространство, то сказал: «Я так не работаю — я так живу». Что для тебя сегодня значит быть художником?
— Мне кажется, это социальный ярлык. Не хочу на себя вешать лишних социальных ярлыков. Художник, музыкант, писатель, куратор… В некоторой степени это можно воспринимать как профессию. Но поскольку обо мне говорят как о художнике, я отношусь к этому нормально, но все же больше считаю себя дизайнером. Об этом я могу говорить более уверенно. И выставку в «Смене» можно назвать выставкой дизайна.
Работа с дизайном — это действительно то, что развивает мой вкус. Я занимаюсь версткой, мне до сих пор это нравится, получаю удовольствие от процесса создания композиции, ощущения формы, выстраивания сетки, структуры. И то, что было сделано для этой выставки, можно сформулировать следующим образом: я сверстал все эти объекты в пространстве.
Когда-то в Москве я начал собирать картиночки. Мне интересен набор физических изображений. Это что-то вроде составления мудборда, но мне не очень важно содержание каждого из элементов, а важно то, как предмет будет выглядеть в общей композиции, например, дома. Я смотрю на стены и понимаю: вот здесь нужно добавить какую-нибудь темную живопись, а здесь — теплую. Расставляешь, и потихоньку складывается общее впечатление. Это все та же верстка, только в физическом пространстве.
Выставки в Москве и парадоксы образования
— Ты художник в третьем поколении: твои дед и отец (Валерий и Виталий Скобеевы) — известные художники. Знаю, что ты иногда работаешь в их мастерских и помогаешь им. Есть ли какие-то связи между теми вопросами, которыми они занимаются в своих работах, и твоими объектами?
— На самом деле мы все очень разные художники и что-то общее я вижу, скорее, на родственном, коммуникативном уровне — мы трое связаны насущными вопросами, но не творчеством. Конечно, я советуюсь с ними. Мне нравятся какие-то работы отца и деда, но связей их с моими я не вижу.
Не так давно для выставки «Москва-Казань-Москва» я сделал живописную работу «Ленская, 5», которая стала частью триптиха о Казани трех поколений Скобеевых. Остальные две части, соответственно, были написаны моим дедом («Дворик») и отцом («Золотой век»). И эта живописная работа стала моей первой, созданной в этом медиуме со времен студенчества в художественном училище. На выставке в «Смене» у меня тоже будет живопись.
Для выставки «Москва-Казань-Москва» мы решили объединиться и написали работы на тему города, в котором живем. Тема, конечно, банальная, но каждый ее решает по-разному.
— Вспомни первую выставку, в которой ты участвовал. Где это произошло и о чем тогда были твои работы?
— Помню, что участвовал в городских стрит-арт фестивалях. Мне кажется, все, кто были в неформальной культуре, так или иначе проходили это. Мне было лет 14 или 15… Я занял первое место на фестивале граффити в честь дня города и в качестве приза получил букет цветов из рук главного архитектора города. Цветы за граффити в день города, понимаешь? Полный абсурд (смеется, — прим. Enter).
Еще одно важное воспоминание — совместная с художницей Валентиной Новиковой выставка для ночи музеев, кажется, в 2010 году. Идея была в создании комнаты внутри ГСИ. Потом я делал одну работу для выставки в музее им. М. Горького — такую вещь на квадратном оргалите в эстетике стрит-арта. Я распечатал на черно-белом принтере изображения, вырезал их и наклеил на оргалит, а сверху покрыл краской. Ох, прямо ностальгия какая-то захватила. Еще одно — почти детский фестиваль «ТрипФест», на котором выставляли работы Булата Галеева.
Когда я переехал в Москву и стал учиться в школе «Свободные мастерские», там начались мои первые выставки, это был новый этап для меня. И, конечно, то, что мне было интересно делать в Казани как художнику, перестало быть актуальным после переезда. Все это время в течение трех или четырех лет я пытался как-то пристроить свой интерес к фотографии. Но в конечном счете я не считаю, что фото — самоценный медиум, которым можно ограничиться без привлечения других художественных средств.
Первая выставка в Москве, в которой я участвовал, проходила в рамках курсов в школе «Свободные мастерские», куратором была художница Антонина Баевер. Выставка называлась «Внедрение» в галерее «Граунд». Антонина преподавала у нас курс «Стратегии самопродвижения начинающих художников», а после него мы сделали выставку. Я тогда сверстал методичку, составил ее четко по ГОСТу. Сам написал текст, зарецензировал ее — можно было нести в библиотеку, ставить ISBN и выпускать. Это была такая специальная книга-фэйк. Мне хотелось с помощью нее выразить абсурд ситуации, когда в институции, которая осуществляет коммерческую деятельность (Школа современного искусства «Свободные мастерские» — образовательный центр Московского Музея Современного Искусства, — прим. Enter), есть школа для современных художников, в которой учат, как им заниматься продвижением себя вне институции. В то время я еще работал в издательском доме Conde Nast, что тоже было важной частью в моей жизни художника.
— Какой опыт, на твой взгляд, сейчас необходим художнику: классическое художественное образование, знание философии и истории культуры или что-то еще?
— Всегда есть два типа людей: те, которые считают своей силой отсутствие бэкграунда, и те, кто за его наличие. Кто-то преуспевает, работая по первому принципу, кто-то преуспевает в другом. Я же за наличие бэкграунда. Изучение курса истории искусства, в том числе современного, помогает понять, как тебе будет проще работать. Некоторые считают, что в искусстве уже все сделано, а мне даже кажется, что это классно. И хорошо, что все наконец поняли, что цитировать друг друга абсолютно нормально. Думаю, осознание этого факта даст возможность выхода к новым точкам отсчета в искусстве.
— Есть ли в России художники, которые тебе нравятся?
— Из русских это Евгений Антуфьев, Павел Пепперштейн, Кирилл Савченков. Хотя Пепперштейн не считается: кто его сейчас не любит?
— Помимо работы с найденными объектами, ты посвящаешь много времени исследованию звука, и в этой области используешь так называемые field recordings (полевые записи — записи природных и урбанистических звуков, созданные за пределами студии). Как ты описал бы архитектуру звуковых ландшафтов, которые собираешь?
— Это, кстати, совсем другая сторона моей работы. Визуальное я не хочу связывать с музыкой. Когда учился на медиаарте в школе Родченко, все, что я там для себя приобрел, не очень хотел бы примерять на себя сейчас. Сочетание множества разных медиумов — это точно не моё. У меня с этим как-то не сложилось. Я не за синтез искусств, ведь Галеев, Скрябин — все это уже было.
То, что я делаю в поле звуковых экспериментов, это, конечно, исследования и импровизации. Ведь и диджеинг — тоже своего рода импровизация. Вообще, мне кажется, мало-мальски культурный человек должен быть в какой-то степени диджеем, уметь сводить, если хочет быть как-то в социуме.
Когда я играл со Scratch orchestra, там было очень круто. Я научился какому-то более чуткому восприятию музыки. До 2013 года я не думал, что буду заниматься чем-то похожим на Scratch orchestra. А во время практик с оркестром понял, что сочинять и исполнять — непростое дело, зато можно делать это перформативно, очень тихо, свободно и обусловленно одновременно. Правда, не могу сказать, что для меня это было чем-то расслабленным — скорее наоборот. Эта работа выглядела как поиск идеального сочетания, того, как ты бы хотел, чтобы это звучало: насколько тихо или громко, низко или высоко. Оркестр дал мне столько же, сколько учеба во всех художественных институциях. Можно сказать, он «поставил» меня как художника.
— Ты также известен как dj Kimberly Clark. Это твое художественное альтер-эго? Или просто ироничное заимствование названия известного бренда? (Kimberly Clark — корпорация, выпускающая продукцию первой необходимости, — прим. Enter)
— Dj Kimberly Klark — продюсерский проект, его придумал Женя Горбунов (музыкант проектов Интурист, Interchain, ГШ). Дело в том, что меня смущают диджеи, которые называются своим именем. Мне нравится, что dj Kimberly Klark — определенный бренд, что-то вроде айдентики. Ведь суть диджеинга в том, что ты ставишь чужие треки на свой вкус, и, по-моему, это продюсерская фишка. Если бы я писал и играл собственную музыку, то мог заявлять это от своего имени. А тут — нет.
— Почему, как тебе кажется, зритель до сих пор ожидает получить ответы на свои вопросы через искусство?
— Это очень прагматичный подход, который может упираться в вопрос о деньгах. Человек, который является потребителем — а мы все потребители — привык понимать, за что он отдает деньги, на зарабатывание которых тратит силы. И отсюда такой мнение, что поход в музей должен тебе что-то дать.
Есть, например, искусство для художников. Как B2B, если уж переводить на прагматичный язык. Это похоже на журнал, который посмотрят только сотрудники одной фирмы. При этом художник преследует свои цели, они могут никак не сходиться с целями того, кто пришел смотреть выставку. Мы все понимаем, что думать — сложно, тратить время — тоже; все стало немного быстрее вращаться, и все мы стали немного более ленивыми. Художнику-то точно не стоит переживать из-за этого. А зрителю, наверное, просто можно попытаться это принять как есть. Но вот это непонимание, которое публика получает на выставке, тоже может быть полезным и заставить ее подумать о чем-то другом. Возможно, даже не об искусстве. Но я хочу добавить, что выступаю против навязывания каких бы то ни было взглядов.
— Многих сейчас волнует проблема архивации искусства. Есть мнение, что музеи переполнены. Как художник ты нередко работаешь с материальными объектами. В какой форме они продолжают существовать после того, как выставка заканчивает свою работу?
— Вещи, которые я использую в своих работах, абсолютно утилитарные. Если же речь идет об изображениях на физических носителях, которые я собираю, то их в любой момент можно превратить в набор вещей, который затем, в разобранном состоянии, может находиться где угодно.
Я поддерживаю теории музеологии, которые развивались на стыке XX и XXI веков и постепенно приживаются у нас, и их идеи вроде создания виртуальных музеев. Ценность объекта условна, для меня достаточен его образ, который становится знаком оригинала — будь то его реплика или фотография. Принцип метапозиции в музеях (способ восприятия объектов искусства с точки зрения постороннего беспристрастного наблюдателя без апелляции к таким качествам произведения, как оригинальность, аура) точно, думаю, будет действовать. А ценность оригинала, по-моему, это уже атавизм.
— Кажется, ты уже успел поработать со всеми возможными выразительными средствами — от живописи и инсталляции до саунд-арта и дизайна. Чего стоит ожидать от тебя дальше?
— Мне пока остается интересной живопись, и я бы хотел ее как-то преподносить. Она может быть на чем угодно — на стекле, холсте. Исследовать то, на что сам реагирую импульсивно, и работать с конструированием восприятия. Слово «восприятие», конечно, размытое, но другого пока не придумали.
Фото: Кирилл Михайлов; предоставлены Александром Скобеевым