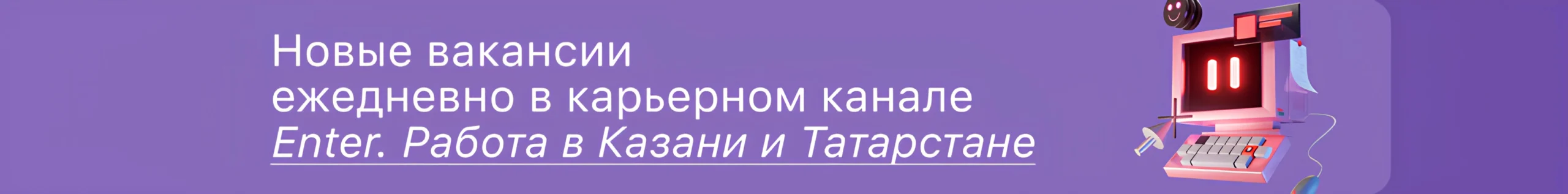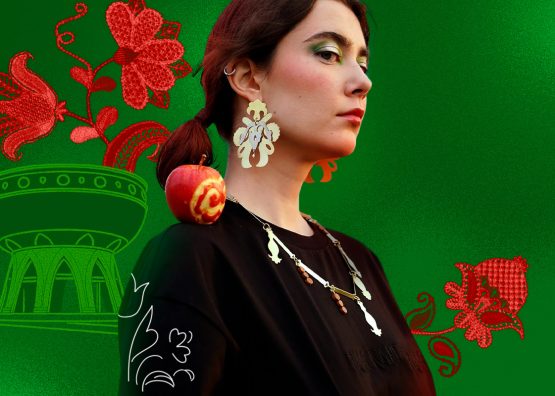Александровский пассаж: Легендарный убыточный молл в центре Казани
В 1977 году рухнуло одно из красивейших зданий Казани — Александровский пассаж на углу улиц Кремлевской и Мусы Джалиля. Масонские символы на фасаде и легенды, которыми оно обросло, стали плодотворной почвой для мистического обоснования случившегося. Вот уже несколько поколений горожан мечтают разгадать его загадки. Недавно появилась информация, что пассаж отреставрируют к 2029 году, а пока попасть внутрь — нереализованная мечта многих казанских блогеров и ценителей архитектуры.
По мнению краеведа и постоянного эксперта Enter Марка Шишкина, на деле в истории пассажа нет ничего таинственного: богатый предприниматель вложил огромные средства в пафосный торгово-развлекательный центр, но он «не взлетел» и стал доставлять проблемы. А почему так случилось — читайте в его авторской колонке.

Что было до пассажа
Как следует из «Сведений о частных постройках за 1871 год» из Государственного архива РТ, участок вдоль улиц Воскресенской и Петропавловской (ныне Кремлевской и Мусы Джалиля, — прим. Марка Шишкина) изначально принадлежал купцу первой гильдии Муртазе Усманову. Здесь у него был дом, лавка и кладовые. В его родном селе Кшкар ныне Арского района Татарстана располагалась текстильная фабрика и знаменитое среди мусульман Кшкарское медресе, которое содержал Усманов. Во второй половине 1870-х годов татарский меценат разорился, и попытки его друзей спасти дело в обход законодательства обернулись громким судебным процессом. Среди причастных были уважаемый имам-просветитель Шигабутдин Марджани, известные купцы Сайдашев и Уразов.
Представления, что татары в XIX веке жили только в татарских слободах, мягко говоря, не соответствуют действительности. Поэтому усадьба татарского предпринимателя на центральной улице не являлась чем-то необычным. Там же целых два дома принадлежали дядюшке татарской красавицы Марьям Апаковой-Шамиль Измаилу Апакову, а известный деятель казанской полиции Шагиахмет Алкин владел усадьбой на другом краю квартала, где жил Усманов. В результате вышеупомянутого суда имущество Усманова на Воскресенской улице перешло к другому предпринимателю — Александру Сергеевичу Александрову.
Как пассаж связан с Кировским районом
За фамилией Александрова стояла большая история промышленного капитала. Его отец Сергей Александров был старшим партнером фабриканта Ивана Алафузова. На основе старинного завода Котеловых в Ягодной слободе вместе они создали огромную индустриальную империю, выпускавшую кожи и ткани.
Одна из дочерей Сергея Александрова, Людмила, была женой Ивана Алафузова и умерла в родах в 1868 году. Когда спустя два года умер сам Александров, Алафузов щедро заплатил его оставшимся детям — Александру и Ольге, — чтобы стать единственным владельцем заводов и фабрик на территории нынешнего Кировского района Казани.
Александр Александров нашел себя в финансовой сфере и стал одним из учредителей казанского Купеческого банка. Но его любимым проектом стало строительство торгово-гостиничного комплекса модного пассажного типа на участке, перешедшем к нему от Усманова.
Идея создать более качественное и современное пространство для торговли и других коммерческих целей на Воскресенской была естественной и логичной. Испокон веков на этой улице располагался Гостиный двор, чей главный корпус сейчас занимает Национальный музей РТ. В большинстве домов сдавались помещения под лавки и гостиничные номера. Даже первый этаж Казанской духовной семинарии, где сейчас Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ, был отведен под магазины, чтобы «отбить» дорогостоящий ремонт здания после пожара 1842 года. Словом, на Воскресенской без особого труда можно было найти покупателей, арендаторов и постояльцев.
Пассаж был построен по проекту молодых архитекторов Владимира Суслова и Николая Поздеева, выигравших конкурс в Санкт-Петербурге. Строительством руководил архитектор Генрих Руш, который тогда еще только-только переехал в Казань. В здании разместили 23 магазина, помещение под ресторан, семь коммерческих помещений под магазинной линией, 17 семейных квартир и 32 меблированные комнаты.
«Почти все торговцы жалуются на холод»
Числа «1880» и «1882», обозначающие годы строительства на красивом фасаде, не должны вводить в заблуждение. Открытие пассажа прошло лишь в конце 1883 года.
13 сентября главная городская деловая газета «Казанский биржевой листок» сообщила, что пассаж Александрова будет открыт 1 октября. С октября же в газете стали появляться объявления о сдаче магазинов в аренду, а само торжественное открытие «состоялось наконец» 29 ноября.
Из публикаций в журнале «Волжский вестник» мы знаем, что в церемонии открытия принимал участие губернатор и другие представители администрации, а освятил здание настоятель соседнего Петропавловского собора. Весь день внутренняя галерея была заполнена публикой.
Некоторые магазины начали работу еще до официального открытия, другие — одновременно с ним; квартиры уже активно заселялись жильцами, при этом ресторан и номера пустовали. Причину последнего обозреватель «Волжского вестника» видел в том, что Александров сдавал их без обстановки, а закупить мебель и все прочее должны были сами арендаторы.
Уже в первый день работы пассажа выявились проблемы, мешавшие торговле. «Нельзя не отметить, что величины магазинов чересчур малы для порядочных фирм. Это видно уже из занятия двух магазинов рядом кондитером Маломерковым. Отопление везде — паровое, но, должно быть, не особенно удачно устроено: почти все торговцы жалуются на холод. В виду этого некоторые, сняв еще за несколько месяцев магазины, не могли в них переходить в виду холода и сырости. Для углового и самого лучшего магазина Рукавишникова господин Александров должен был проложить еще одну паровую трубу, что обошлось ему, как говорят, до 1 000 рублей» — сообщал «Волжский вестник».
Понимая существующие неудобства, Александров не стал связывать контрактами никого из арендаторов, что, впрочем, сказалось не в лучшую сторону на доходности здания.

Дорогие магазины и ресторан «Пале-де-Кристаль»
И все-таки здание было заметным и роскошным, поэтому его постепенно стали обживать торговцы и квартиросъемщики.
Упомянутый кондитер Тимофей Маломерков славился тем, что украшал витрины своего заведения сахарными фигурками. Это могли быть миленькие барашки, утки и курочки или же целый полк сахарных солдатиков. Длительное время два магазина и круглую комнату на лестнице арендовал Петр Климов, торговавший часами, иконами, подарками, золотыми и серебряными вещами. Вывеска «Петр Климов» хорошо видна на старых фотографиях пассажа, а ценителям деревянного зодчества Климов известен как владелец симпатичного особняка по адресу Достоевского, 6. По соседству с магазином Климова в пассаже располагался магазин фирмы «Норблин и Ко», где продавалась серебряная посуда и самовары. Магазин «Восточная лира» предлагал покупателям рояли, фисгармонии, скрипки и гитары. И здесь же какое-то время был магазин Дмитрия Черноярова, чьи сыновья позже построят Чернояровский пассаж рядом с Александровским.
Ресторан в пассаже носил звучное название «Пале-де-Кристаль» («Хрустальный дворец», — прим. Марка Шишкина). Кроме него на нижнем этаже с выходом на Черное озеро располагалось трактирное заведение попроще.
Квартиры по стоимости от 108 до 1 000 рублей в год снимали представители состоятельных слоев. Одна из них находилась в пользовании Казанского купеческого клуба. В начале 1890-х годов среди квартирантов пассажа было немало светил казанской медицины: фармаколог Иван Догель, венеролог Евлампий Образцов и офтальмолог Александр Агабабов.
Почему Ольга Александрова отдала пассаж городу
20 мая 1889 года Александр Александров умер. «Как слышно, после покойного осталось более 8 миллионов наличными капиталами, не считая недвижимого имущества… Рассказывают, что покойный в продолжение двух-трех недель перед смертью весьма явно обнаруживал предчувствие близкой кончины, хотя, по видимому, был сравнительно здоров», — сообщал инсайды «Казанский биржевой листок».
… А дальше сестра усопшего Ольга Сергеевна Александрова совершила поступок, мотивы которого до сих пор вызывают споры. 19 сентября 1890 года она направила письмо мэру Казани Сергею Дьяченко. В нем богатая наследница сожалела о том, что не на все прогрессивные инициативы по развитию города хватает финансов, и предложила городу 500 000 рублей серебром на покупку здания на Воскресенской улице, где бы разместились музеи и удобные лавки.
Слова «пассаж» в письме нет, но слушавшие письмо депутаты городской думы сразу поняли, о чем речь — и мэр Дьяченко очень кстати сообщил им, что уже провел переговоры с Александровой о покупке пассажа. «Музеи» упомянуты во множественном числе, потому что в городе уже давно готовились к открытию педагогического музея, а когда 15 сентября 1890 года завершилась Казанская научно-промышленная выставка, на основе ее экспонатов было решено создать еще один — научно-промышленный музей.
Что стояло за решением Ольги Александровой фактически отдать пассаж городу? Возможно, желание быстро и эффектно сбыть с рук непростую недвижимость: краевед Лев Жаржевский писал, что еще ее брат при жизни планировал разыграть пассаж в лотерею. Совершенно точно в решении Александровой проявлялись ее амбиции как общественной деятельницы в мире, где все официальные должности могли занимать только мужчины. «Как женщина, я могу служить городу только своей материальной поддержкой. В силу этого я зорко следила за всеми действиями, направленными на повышение благосостояния города и его общества, и, заметивши недостаток материальных средств в деле достижения этой цели, старалась дать посильную лепту», — писала сама Ольга Сергеевна.
Александрова была давно известна как щедрая содержательница образовательных и социальных учреждений в Казани. В 1890 году она выходила замуж за генерала Гейнса и переезжала в Санкт-Петербург. Мэр Дьяченко от лица города благословлял ее Казанской иконой. Момент для совершения большого поступка был самый подходящий. Так Александровский пассаж стал Городским.
«Пале-де-Кристаль служит обиталищем лишь крыс и мышей»
Приняв пассаж в свою собственность, город довольно быстро удостоверился, что управление этим зданием — задача не из простых. На 1891 год чистый доход пассажа составлял всего 4 051 рубль. Для сравнения, гораздо меньший по площади и не отличавшийся фешенебельностью Дрябловский дом (бывший дом купца Михляева, — прим. Марка Шишкина) на территории фабрики «Адонис» город сдавал в аренду за 3 505 рублей в год.
С музеями в пассаже тоже не задалось. Небольшое помещение нашлось только для педагогического, и несколько лет в пассаже будет действовать выставка наглядных пособий. А вот для научно-промышленного музея здание оказалось непригодным. «Низкие небольшие комнаты будут значительно препятствовать удобному размещению предметов и осмотру их публикой, кроме того, громадные лестницы представят неудобства как для публики, так и для музея», — сообщалось в докладе специальной комиссии. Ему было решено отвести часть помещений Гостиного двора, а из доходов пассажа ежегодно отчислять на содержание 1 800 рублей.
Планы повысить доходность пассажа, сдав 100% жилых и торговых помещений, были далеки от реализации. Арендатор ресторана «Пале-де-Кристаль» Тарасов в 1891 году просил о снижении платы, объясняя это «крайне невыгодным положением торговли».
Спустя пять лет после перехода здания в ведение города газета «Казанский телеграф» рисовала неутешительную картину: «По нашему мнению, главная причина упадка доходности заключается, во-первых, в том, что городское управление, приняв в свое ведение здание пассажа, уничтожило «из какой-то экономии» подъемную машину, вследствие чего масса квартир пустует. Во-вторых, не делается никаких публикаций о свободных квартирах, и даже такое помещение как «Пале-де-Кристаль» второй год уже служит обиталищем лишь крыс и мышей».
После нескольких лет поисков в 1896 году для пассажа нашелся солидный арендатор. Это был Павел Щетинкин, который превратил «Казанское подворье» на Большой Проломной в один из лучших отелей города, эффективно управлял большим количеством недвижимости и параллельно на свои средства строил церкви и школы по всей губернии. Лучшего управляющего для пассажа не найти!
Но и Щетинкин не мог работать себе в убыток. Когда в 1902 году городская управа решила повысить стоимость аренды с 8 000 рублей в год до 12 000, Щетинкин от пассажа отказался. В ответ город предъявил ему иск на 12 000 рублей за невыполненные ремонтные работы, и это дело тянулось в 1903 и 1904 годах.

Архитектор Руш хочет стать антикризисным управляющим пассажа
Последнюю решительную попытку спасти пассаж предпринял его фактический строитель и теперь уже известный казанский архитектор Генрих Руш. Он ревностно следил за состоянием своего первого казанского здания и пытался провести опись пассажа еще в 1902 году, что вызвало неудовольствие Щетинкина.
В 1904 году Руш решил стать арендатором пассажа и направил городским властям подробный антикризисный план. Он начинался с описания ошибок, допущенных еще на этапе проектирования. Проект создавался иногородними архитекторами без учета местоположения и вообще реалий Казани. Магазины были слишком малы и недостаточно хорошо освещались. Галерея должна была перехватывать людей с улицы и проводить через здание кратчайшим путем, но не выполняла эту функцию, поскольку шла параллельно Петропавловской улице.
«Магазины от начала его открытия по сие время отдавались под музеи, библиотеки, мастерские, склад вещей и конторы, то есть такие заведения, которые не нуждаются в вечернем освещении. Само собой разумеется, что магазины темные, стекла грязные, кое-чем занавешенные производят на публику отталкивающее впечатление, убивающее в конец всякую торговлю», — писал Руш.
Те, кто сейчас восхищается пассажем, вряд ли готовы представить там грязные, темные, завешенные тряпьем витрины. Зато доклад Генриха Бернардовича казанские краеведы вспоминали как пророческий в том, что касалось обрушения здания.
«Дренажные трубы уничтожены, коих назначение отвлекать грунтовые воды от кирпичных фундаментов пассажа. Своеобразное размещение погребов со льдом в подвальном этаже пассажа дает массу воды, которая сочится по стенам пассажа по направлению к Черному озеру, ослабляет тяжеловесные массивы здания», — все это сработает в роковом 1977 году, когда здание рухнет.
Архитектор предлагал план действий, рассчитанный на 10 лет. Каждый год Руш был готов отдавать за аренду разрушающегося здания все больше: с 6 000 рублей в 1904 году до 13 000 в 1914 году. Городская управа (тогдашний исполком, — прим. Марка Шишкина) соглашалась принять этот план с некоторыми оговорками, но депутаты городской думы отвергли предложение Руша как «не представляющее выгод для города».
В 1905 году Генриха Руша не стало, а проблемы пассажа продолжали нарастать. Уже после Февральской революции в августе 1917 года городская дума вновь собралась по наболевшему вопросу и постановила «разработать дело эксплуатации пассажа, чтобы не было места благотворительности, которая процветала до сих пор, и чтобы с будущего года пассаж начал давать хоть какой-нибудь доход». Этот крик отчаяния потонет в водовороте революции. В 1918 году у города будут более насущные задачи — выживание в Гражданской войне.
Перестать относиться к пассажу как к «загадочному» зданию
Реальная история Александровского пассажа не такая загадочная, как бестиарий, изображенный на его фасаде. Скорее, она может послужить хорошим уроком для современных инвесторов и девелоперов, чем источником вдохновения для художников и поэтов.
Сбросить ореол таинственности важно, чтобы принять действенные решения, способные оживить этот «золотой» участок в самом центре. Гости города постоянно спрашивают экскурсоводов про пассаж. Репутация Казани станет еще лучше, если вместо мистики они услышат в ответ историю о том, как мы сумели исправить ошибки прошлого.
Текст: Марк Шишкин
Изображения: Марина Никулина
все материалы