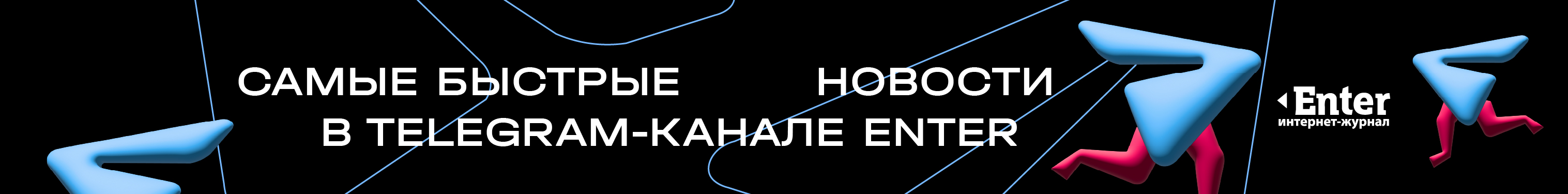Философ Олег Аронсон — о социальной провокации и хорошем кино
С 29 января по 5 февраля в Галерее современного искусства ГМИИ РТ прошла неделя Тарковского, посвященная творчеству режиссера. В рамках мероприятия выступил Олег Аронсон — старший научный сотрудник Института философии РАН, теоретик кино с лекцией «Тарковский: экономика кинематографического времени».
Enter встретился с экспертом кино и узнал о женоненавистничестве Андрея Тарковского, а также о том, как через просмотр слезливых мелодрам можно приобщиться к вечности и почему тюрьма — это настоящий музей.

— Ваше первое образование — прикладная математика. Как вы стали заниматься философией и теорией кино?
— Когда я начал учиться, довольно быстро понял, что у меня нет достаточных способностей, чтобы стать математиком, а работать программистом я не хочу. Рядом со мной находились люди, по которым было понятно, кто такие математики. Поэтому я решил изменить сферу деятельности. Так я попал в Институт философии и пришлось ею заниматься. Как человек из интеллигентной семьи, я не могу сказать, что раньше ничего не знал и не читал, но конкретной идеи изучать философию у меня никогда не было.
Первое образование помогало мне на первых порах. Математическое доказательство для меня было примером того, как нужно строить аргументацию. Через много лет я снова вернулся к математике, но уже через призму философии, и открыл в ней новые возможности, которые не связаны исключительно с решением задач.
— Получается, что математика и естественные науки помогают больше понимать гуманитарные?
— Не уверен, что математика — это наука. А если это и так, то скорее гуманитарная: она больше о мышлении, нежели о мире. И в этом смысле ближе к философии, чем к физике или биологии.
А вот с естественными науками не все так однозначно. С одной стороны, они, конечно, дают важный эмпирический опыт, осваиваемый человечеством. А с другой — блокируют остальные возможности познания из-за своей претензии на истину, которой гораздо меньше в тех же философии и математике. Человеку, занимающемуся естественными науками, кажется, что он схватывает истину мира в опыте познания, но ведь есть что-то и за его пределами. Не менее важное.
— Вы приняли участие в мероприятии, посвященном творчеству Андрея Тарковского. Чем вас интересует его фигура?
— Мое отношение к творчеству Тарковского в разные годы было разным. И если в школьные годы я был его поклонником, то несколько позже, посмотрев много мировой классики кинематографа, его фигура отошла на второй план. Когда я начал заниматься кино профессионально, то снова вернулся к нему. И для меня стали важны не столько эстетика и глубокомыслие Тарковского, на которые чаще всего обращают внимание, сколько техническая сторона. Ее несправедливо обходят стороной: звуковое оформление, движение камеры, длинные планы. Я воспринимаю фильмы Тарковского, как своеобразное воплощение иного понимания времени, которое оказывается возможным не через философское осмысление, физику, биологию или историю, а именно через призму кинематографа.
— Насколько мне известно, вы не считаете кино искусством?
— Сначала считал, конечно, но сейчас уверен в обратном.
На мой взгляд, ценность искусства преувеличена. И наш мир все больше и больше это показывает. Скажу вам по секрету, современное искусство — тоже не искусство. Но здесь нет ничего обидного. Так же и кинематограф — это сфера эксперимента, коллективного опыта, причем в большей степени, нежели сфера художественных амбиций. В кинематографе было время, когда он действительно мыслил себя как искусство — достаточно длительный период. С ним связан, например, расцвет авторского кино. Но сейчас все яснее видно, что кино ближе к развлечению, аттракциону. Что не мешает ему быть экспериментом.
Большая часть артхауса пытается выглядеть как искусство. И ценность Тарковского как раз не в том, что он — художник. Для него кинематограф — инструмент эксперимента с памятью, со временем и так далее. Искусство ли это? Если широко понимать искусство, то им будет что угодно: от выращивания помидоров до кройки и шитья. Тем не менее мы понимаем, о чем идет речь: об определенном типе выразительности, связанном прежде всего с историей изящных искусств. И вот кинематограф ее преодолевает, забывает, и это его позитивное качество.
Однако так сложилось, что искусство понимают слишком широко. Современные художники часто этим пользуются. Они все время говорят нам, что определяющих границ нет. Так происходит, потому что искусство — это зарекомендовавший себя бренд. Если ты называешься искусством, то тебе многое позволено: можно попасть в музей, зарабатывать много денег. А если назовешься социальным провокатором, то тебя просто, может быть, посадят на 15 суток и все. И никаких дивидендов.

— Неужели социальная провокация еще не стала брендом?
— Отчасти. Возможно, скоро многие «социальные провокаторы» перестанут называть себя художниками и займутся иной модной и прибыльной сферой, которая встанет на место искусства.
Я очень хорошо отношусь к социальному искусству. Уверен, что оно выполняет важную роль. Например, акции Pussy Riot и Павленского необходимы обществу и современному миру. Это такие уколы в зоны нечувствительности, своеобразной социальной анестезии, куда не может добраться политика. Казалось бы, все схвачено, но вдруг появляются такие художники. Хотя для меня совсем неважно, художники они или нет, понимаете? Важнее их социальное действие.
— К Pussy Riot и Павленскому у массовой аудитории, мне кажется, неоднозначное отношение. Кто-то просто считает их действия бессмысленными и хулиганскими, а кто-то — спланироваными акциями, вполне укладывающимися в рамки определенной государственной стратегии.
— Любого можно обвинить в том, что он на кого-то работает. Сложно сомневающихся убедить в обратном. Но я не вижу ничего, что делало бы акции Pussy Riot и Павленского более выигрышными, даже если бы они и являлись госзаказом. Для меня важна сама акция и ее эффект.
— Как вы определяете эффективность акции?
— По реакции медиа. Вот последнюю акцию Pussy Riot на Чемпионате мира по футболу я считаю выдающейся, потому что она охватывает глобальную аудиторию. Миллиарды людей смотрели этот матч. Современное искусство, приобретшее медийную функцию, должно стремиться к работе с глобальной аудиторией. В противном случае оно архаично. Вообще, это сложное пространство, в которое очень трудно прорваться, и если люди, называющиеся художниками, могут так сделать — флаг им в руки.
— Искусство как социальное действие сейчас называется искусством, потому что еще не появилось подходящее слово?
— Не только. Ему выгодно себя так называть: это хорошая «крыша» — многое позволено и многое прощается. Самый радикальный жест, который может сделать современный художник — отказаться от этой защиты, стать анонимным.
— Искусство переходит на поле социального действия, а что остается искусством в классическом понимании и нужно ли оно сейчас?
— Я считаю, что искусство в виде истории изящных искусств — это что-то мертвое. Ему место — в музеях, а функция — исключительно развлечение публики. В нем нет никакой смысловой нагрузки для современного мира. Оно просто показывает, что было ценное и великое в прошлом. Например, политика говорит, что раньше были полководцы и мы ими гордимся, а искусство говорит то же самое про художников. Но художники и полководцы — это гении уходящей эпохи. Начиная с XIX века приходит совсем другое время — время массы, коллективности. А мир героических личностей, скажем, разного рода амбициозных мужчин, уже давно позади.
— История — мир амбициозных мужчин?
—Да. Женщин там немного, и они, в основном, скрытые мужчины.Такие женщины ведут себя по правилам мужского мира и работают в его логике власти и насилия. Традиционное искусство, которое выставлено в музеях, по большей части представляет собой мир власти и насилия. В этом смысле интересны художники, которые не прошли отбор в качестве великих, художники «второго ряда». Сейчас появляется все больше музеев, таких как музеи ap-брют или наивного искусства, например, а также пространств с работами «забракованных» художников — это знак того, что даже общество устало от навязываемого ему величия прошлого, будь то милитаристское или художественное.
— А что, по-вашему, тогда представляет собой женский мир?
— Как и некоторые современные феминистки, я думаю, что мир гениев и героев, войн и торговли, искусства и насилия один — условно мужской. Это мир истории, доминации мужчины над женщиной, в котором даже борьба последних за свои права ведется по этим правилам. Для меня женский мир не противостоит мужскому, а является его слепым пятном, зоной абсолютной слабости. В нем действуют силы, проявляющие себя и ускользающие из-под господства тех или иных знаков власти. Но это также и мир животных, меньшинств, изгоев, любых подневольных. Тут нет великих достижений и шедевров, но именно здесь рождается сопричастность, справедливость и достоинство. Это мир грядущей демократии, у которой не может быть никакого другого лица, кроме женского.
— Может ли искусство в понимании социального действия существовать в пространстве музея? Многие из современных художников, в том числе левого толка, продолжают участвовать в модных международных биеннале, организовывать платные авторские выставки, получать различные престижные премии и так далее. Нет ли в этом противоречия?
— Безусловно, такое искусство, попадая в музей, сразу же превращается в бренд. Но я не вижу ничего плохого в противоречии. Это ставит перед художниками проблему поиска взаимодействия между этими пространствами. Простое отрицание было бы слишком наивным. Нужно научиться выстраивать более сложные стратегии коммуникации с захваченными капиталом пространствами. Мы имеем или позицию простого радикального отрицания, которая не достигает ни умов, ни ушей аудитории, или позицию левых, которые поместили себя в музейное пространство и фактически предали левую идею. Их можно понять, ведь музейное пространство очень уютно. Художники левого толка, получающие гранты, посещающие разные биеннале и представляющие борьбу за рабочий класс в рамках отведенного им выставочного квадрата, вызывают, конечно, легкое недоумение, а иногда даже раздражение. Мне кажется, это куда хуже, чем неизвестность уличного художника. Конечно, я на стороне тех, кто на улице.
— Ранее вы говорили о Pussy Riot и Павленском. Вы считаете, что им удалось выстроить правильную стратегию?
— Pussy Riot и Павленский не вполне художники левого толка. Pussy Riot поют про Путина и церковь — это сложный комплекс критики: одновременно и антиклерикальное действие, и политически-оппозиционное, а как действие искусства, оно на очень дальнем плане. В этом вся важность. Когда Павленский делает свои акции, мы прежде всего видим, что политика записана на нем самом: там, где она не доходит до прямого вмешательства в тело, он осуществляет за нее это действие сам. И это производит впечатление, особенно на неподготовленную аудиторию, которая не знакома с венским акционизмом, и с тем, что это делалось задолго до Павленского разными художниками на Западе. Но самое главное, что он участвует в ситуации, где люди лишены голоса, но свое тело все еще могут предъявить. Также они могут предъявить песенку, как Pussy Riot, хотя лишены политических прав. И хоть она ничтожна с точки зрения искусства, через нее говорит вся отлученная и от политики, и от искусства аудитория. Так же, как через Павленского говорят все тела одновременно.
Другое дело, что у последнего еще есть определенный образ героя, как раз галерейный, для фотографий. Не было бы такого образа, никто бы его не заметил. Просто поместили бы в психлечебницу, как Пригова в Советском Союзе, когда он расклеивал объявления «Люди, будьте бдительны» на столбах. Павленский делает так, что его не могут забрать как сумасшедшего, потому что тут же начинается возмущение общественности: «Вы что, не видите, что это современное искусство?» Павленский и Pussy Riot не концептуалисты, они социальные активисты. Что делает Pussy Riot как панк-рок-группа? Все в ней обязательно должны быть только женщинами, в идеале анонимными, песенка должна быть шлягерная, даже в форме молитвы, и надо, чтобы это было болевой точкой времени. Все, что очерчивает их пространство действия, далеко от искусства, но знаки, которые они используют, не дают определять их просто как хулиганок. Так же и с Павленским. Его образ застревает в глазах всех, кто видел музейные лики святых или портреты героев.
Клип IC3PEAK на песню «Смерти больше нет», где вокалистка группы Настя Креслина поливает себя бензином у Дома правительства в Москве, 2018 год
— Достигают ли социальные действия Pussy Riot и Павленского поставленных целей? Есть ли смысл в их деятельности?
— Я думаю, время смысла еще не пришло. Смысловые блоки-клише, возникающие вокруг этих акций, можно разложить, как карты. Во-первых, это спланированная акция, во-вторых, просто пиар, в-третьих, они сумасшедшие, это не искусство и так далее. Добавьте в этот набор и свою карту, пусть она и будет еще одним смыслом, который вкладывали Павленский и Pussy Riot. Я думаю, что они работают не просто с социальной провокацией, а со способом обращения к самой широкой аудитории. Спросите себя, каков путь к ней, и все встанет на свои места. Главное, что делает эти акции медийными — то, что они доводятся до суда. Последний является местом общества, где выносится суждение в отношении искусства. Суд — последний критерий в определении того, что является искусством, а что — нет. Потому что там находятся обычные люди, господствующие ценности и, конечно, политика. В идеале должны быть присяжные, которые выполняют функцию общества, но и без них эта функция осуждения или оправдания все равно сохраняется. Если художник не довел дело до суда, то никакой он не художник. И, может быть, продолжение современного музея — именно в тюрьме. Когда художников всех посадят, она и станет настоящим музеем.
— Кстати, в одном из интервью вы утверждаете, что музей — это пространство, где искусство прекращает свое действие, становится товаром. Тогда какие функции вы видите у современного музея?
— Есть музей как социальный институт, а есть музей как площадка для развития профессиональной деятельности. Первое — для меня явление негативное — это то, что становится частью общества потребления, где искусство оказывается товаром, а публика становится частью его функционирования, принося деньги. Но для меня музей, словами Дарвина, — предадаптивное пространство будущего мира: мы не знаем всех возможностей музея. Дарвин обнаруживает в своих поздних работах, что эволюция нелинейна: некоторые мутации проявляются в видах, которым они не нужны. Этот вопрос разрешается в теории предадаптивности: некоторые процессы идут хаотично, задействуя разные виды, чтобы в каком-то одном из них проявиться. Музей мертвый сам по себе: ни искусство ему не нужно, ни он — искусству. Но он должен аккумулировать творческие потоки, чтобы потом они разрешились в других, немузейных пространствах.
— Как вы считаете, можно ли считать некоторых современных музыкантов и рэперов акционистами? Тех же IC3PEAK или Хаски?
— Не думаю, что они акционисты. Дело в том, что сегодня многие стали использовать элементы акционизма и в сфере поп-культуры, и в сфере политики. Особенно это характерно для последней: она постоянно перенимает у акционистов те или иные механизмы и приемы. Если в 90-е политтехнологи во время выборов специально нанимали известных актуальных художников, то теперь само политическое поведение состоит из набора весьма специфических акций и перформансов. Обратной стороной этой ситуации становится то, что акции самих независимых художников постоянно сводят исключительно к пиару.
Не уверен, что сегодня акционизм связан с музыкальной сферой. Такой эффект создается потому, что рэп — явление социальное даже в большей степени, чем музыкальное.
— Вернемся к вопросам кинематографа. Скажите, существует ли такой феномен, как русское кино?
— Если мы имеем в виду кино, произведенное в России, то да. Тем не менее я считаю, что сейчас нет национальных кинематографий. Существуют только некоторые всплески, когда несколько режиссеров из одной страны, которая не была до того кинематографической, вдруг захватывают умы западной интеллектуальной аудитории. Так возникает феномен румынского кино, например. Но мы понимаем, что он существует только в умах интеллектуальной аудитории кинофестивалей.
Кино сегодня — это глобальное явление и имя ему, прежде всего, Голливуд. И его стоит рассматривать как предельную инфантилизацию человеческого мира. Кино — это то, что смотрят дети. Чтобы это понять, достаточно просто зайти в кинотеатр и посмотреть, что там показывают. Этот этап является логичным развитием истории кино. Мы можем проследить развитие кинообраза подобно тому, как Дарвин прослеживал эволюцию видов: через динозавров, какими были Бергман и Антониони, мы пришли к сусликам и червячкам, которые стали пределом развития кинематографа на сегодняшний день.
Путь кино — это история осознания места человеческому «я». Мы можем взглянуть через призму кино на развитие человечества и сделать заключение, что роль «я» — ничтожна, а всем управляет масса, которая является своеобразной стихией в современном мире наряду с техникой.
— Можете ли вы назвать знаковые фильмы, которые должен посмотреть каждый?
— Мой сын как-то позвонил мне и сказал, что отдыхает в компании друзей и они хотят посмотреть что-нибудь из Хичкока, но не знают, что. И тогда он решил обратиться ко мне за советом. Я задумался и назвал фильм, который первым пришел в голову — «Тень сомнения». Потом сын меня ругал: картина оказалась черно-белой и скучной. А через много лет мы с ним решили посмотреть «Причастие» Бергмана, и на этот раз черно-белый скучный фильм ему понравился. Путь к интеллектуальному авторскому кино должен идти не через совет. Такие фильмы должны тебе зачем-то понадобиться. А если ты будешь их смотреть ради общего развития, это мало что даст. Ну разве что появится возможность похвастаться перед друзьями.
Я многих режиссеров считаю очень значимыми, несмотря на то, что не люблю их. В этой связи часто рассказываю историю о Станиславском. Он, когда общался с актерами, любил спрашивать у них, что такое идеальный театр: не тот, который нравится, а тот, за которым будущее. Для него идеальный театр — театр актера, который существует в режиме реальной жизни так, что от него невозможно отвести взгляд. На самом деле это почти идея кинематографической голливудской модели. По аналогии с театром, для меня идеальный фильм сегодня — это Kill Bill: Vol. 1. В нем заключена история развития кино. Там есть комикс, инфантильность, ностальгия — все сконцентрировано в этом фильме. Не обошлось и без иронии: к кино сегодня невозможно серьезно относиться, оно не решает проблем.
— Как известно, Ларс фон Триер является большим поклонником Тарковского. Свой фильм «Антихрист» он посвятил ему. Многие исследователи кино не видят связи с наследием Тарковского и считают этот жест оскорбительным. Как к этому относитесь вы?
— Я считаю, что Триер — трикстер и любит провоцировать финальными сценами. Вспомните «Рассекая волны»: на фоне картины, изображающей религиозный экстаз богоявления, вдруг возникают почти китчевые колокола на небесах. Это очень смешно. Никто на них не обращает внимания, потому что все захвачены историей героини. А Триер как-будто насмехается: «Вы что, серьезно ко всему этому отнеслись?» В финале «Догвилля» идут кадры американской депрессии под песенку Дэвида Боуи, которая переворачивает все повествование. Режиссер все время разрушает наши психологические моменты отождествления с персонажами. Специфика кинематографа как раз в том, что мы верим даже самому условному зрелищу.
То же самое и с посвящением Тарковскому. Мы смотрим «Антихриста», и он ужасно смешной. Но некоторые воспринимают его серьезно, в том числе из-за жестоких сцен. И когда после всего этого идет посвящение Тарковскому, мы вдруг видим, что все ключевые темы фильма — темы Тарковского. Только Триер расширяет его мир с помощью штампов массовой культуры. И главный из них — первобытная, природная мизогиния. Тарковский — один из выдающихся женоненавистников мирового кино. Вспомните хотя бы «Ностальгию», где героиня существует только для того, чтобы мешать человеку творить и вернуться на родину. Единственная женщина, с которой режиссер может вступить в коммуникацию — это мать. Все остальные — просто помехи и угрозы.
— Как правильно понимать кино: необходимо разгадывать смысл, заложенный в него режиссером или достаточно того, что ты сам смог увидеть? Будут ли такие интерпретации равноправны?
— Конечно нет. Интерпретация зрителя всегда важнее. Если режиссеру после просмотра фильма приходится зрителям что-то объяснять, то это знак неудачи. Кино как работа с непосредственным восприятием зрителя появилось после Второй мировой войны: неореализм, Хичкок. До этого кинематограф был воздействующим, как у Эйзенштейна и в Голливуде 30-х. Сейчас это зрелище, в которое зритель включен, без него кино невозможно. Фильм может быть предельно плохо снят, и зритель все равно будет его смотреть. Мы знаем кучу таких сериалов, в которых, кажется, уже клеймо ставить негде: операторская работа, свет, актерская игра — все ужасно. Но там представлена какая-то слезливая история, примитивная донельзя, и люди будут следить за ней, как за ток-шоу.
— Для меня большая загадка, почему так происходит.
— Тут задействовано коллективное начало. Индивид бы заметил, что им манипулируют. Когда из кино уходит вся техника и от него остается только минимальная история, касающаяся каждого, появляется сопричастность. Ты в этот момент не ты, а часть других. Так люди в лучшем смысле приобщаются к вечности, а в худшем — становятся обывателями. Парадоксально, но это происходит одновременно. Во время просмотра элементарной мелодрамы зрители являются частью зрелища, совсем другой кинематографической структуры. И кинематограф в результате пришел к тому, что выразительные средства, которые он так долго осваивал, стали не нужны. Кинематографу нужен только рассказ, нарратив. История так захватывает, потому что она выходит за рамки человеческого понимания, человеческой жизни. Рассказчик в этом смысле почти как шаман. А интернет в сегодняшнем глобальном и медийном мире — ходячий нарратив.
— За свое исследование, представленное в книге «Метакино», вы стали лауреатом премии Мирона Черненко. Расскажите, что это за явление и каково ваше понимание кинообраза?
— Кино, исчерпав свои кинематографические возможности как зрелища, оставляет некинематографическое поле, в котором продолжает действовать. Например, хороший фильм для меня — это не тот, который нравится во время просмотра, а тот, который запоминаешь. Например, Робер Брессон изменил мое отношение к кинематографу. Студентом я попал на его фильм «Мушетт» и сразу понял, как он работает со зрителем. Это было абсолютно противоположно моему восприятию кинематографа. Тогда моими любимыми режиссерами были Ренуар и Виго, а Брессон казался холодным извергом, уничтожающим кинематограф своим методом. Он меня так раздражал, что когда появлялся его фильм в программе «Иллюзиона», то я как завороженный шел и продолжал возмущаться. В один момент я задумался: почему я это делаю? И сразу же полюбил Брессона. Его творчество как раз можно обозначить как метакино: когда картина кончилась, не осталось ни одной кинопленки, а образы и обсуждения фильмов продолжают существовать.
— В своей лекции вы отметили, что любая культура — массовая. Почему?
— Культура не делится на массовую и элитарную, скорее внутри массовой существует высокомерная и нормальная. Просто первая считает себя дистанцированной от масс, но это иллюзия. Фредрик Джеймисон (американский литературный критик и теоретик марксизма, — прим. Enter) об этом говорит с конца 70-х годов, анализируя общество, в котором торжествует массовая культура в самых разнообразных проявлениях: кинематограф, сюрреализм, архитектура… Высокомерная культура просто не хочет признавать, что тоже живет коллективными желаниями, как и массовая. И в этом смысле современный инфантильный кинематограф гораздо более честный, чем авторское кино или артхаус, которые делают вид, что они — все еще искусство. Как исследователь могу проследить процесс исчезновения культуры как ценности. А массовая культура как раз-таки перестает быть ценностью. Например, раньше существовала ценность подлинника, а сейчас совершенно непонятно, чем он лучше хорошей копии. В XIX веке сформировалось понятие публики, которая стала потребителем искусства вместо аристократии, как было до Французской революции.Она и есть прообраз массовой культуры — это посетители салонов, буржуа, которые не разбираются в искусстве, но готовы платить деньги за подсказки богемы, что им надо купить.
А сегодня мы все в положении неофитов: культура настолько разнообразна, что ты всегда можешь найти в ней неизведанную зону. Искусство — это то, что называется искусством. Чтобы быть современным художником, не нужно иметь художественное образование, важно иметь желание. Проблема теперь в области действия, оставляющего после себя остаточный эффект в массах. Художник, который не работает с массами, не работает с современным миром.
— Вы говорили, что мы живем в мире ложных образов, в котором любая достоверность оказывается медийно опровержимой, необходимо просто научиться жить и действовать в этом мире. Как?
— Постепенно учимся. Сейчас в мире есть только то, о чем говорит телевидение. Оно создаёт «реальность». А в интернете вообще не важно, кто и что говорит. Мнение становится абсолютно безжизненным, важны сопричастность и солидарность. Телевидение это использует. Оно мобилизует общество без прямого политического вмешательства. Но все равно это вариант войны. А войны ведутся против того, что обозначено как ложь или зло. Научиться жить в мире ложных образов — значит научиться жить в мире демократии, где равенство подстерегает тебя на каждом шагу, где нет различия между неофитом и ученым, мужчиной и женщиной, человеком и животным. Ты должен иметь зону сопричастности и солидарности и с теми и с другими.
Фото: jewish-museum.ru
все материалы