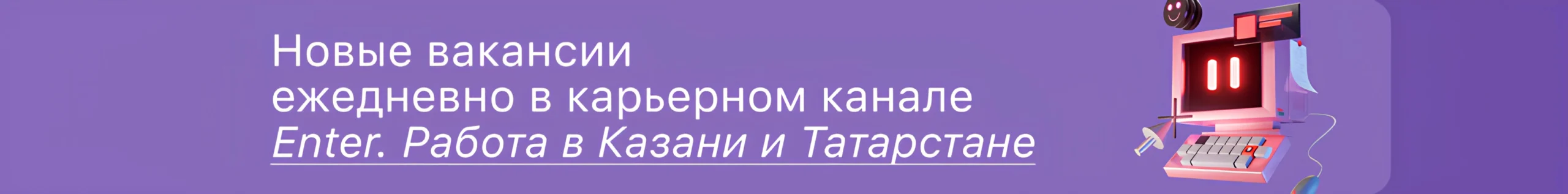Ильгизар Хасанов — о правде художника и важности зрителя
18 мая в Центре современной культуры «Смена» откроется «Красное» Ильгизара Хасанова — последняя часть выставки-трилогии «Женское. Мужское. Красное». Первые две можно было увидеть в ЦСК в 2015-м и 2017-м. Эта трилогия — результат долгосрочного исторического и антропологического исследования художником советской материальной культуры. Enter встретился с Ильгизаром Хасановым и поговорил о самокритичности, важной роли зрителя и чувствительности.
Ильгизар Хасанов родился в 1958 году в Казани. В 1982 году окончил художественно-театральное отделение Казанского театрального училища. С 1996 года — член Союза художников России. С 2000-го — член Общества Франца Кафки (Прага), удостоен его диплома и золотой медали. В 2013 году стал одним из основателей казанского Центра современной культуры «Смена». Работает с живописью, скульптурой, реди-мейдом и инсталляцией.

— Когда вам впервые пришла мысль о занятиях искусством?
— Я помню, что предан искусству с детства. В отличие от большинства школьников, я был к нему неравнодушен, и если нас водили в музеи, становился самым внимательным зрителем. Рисовал с детства, но не учился в художественной школе. На Федосеевской, рядом с местом, где мы жили, находилась первая художественная школа. Я ходил мимо нее в баню, и это грустно: вроде за одной чистотой ходишь, а другой чистоты добиться не можешь. Мне казалось, что для поступления нужна какая-то подготовка, а я сомневался в себе, думал, что есть люди, которые предназначены для этого. Я и сейчас в этом убежден.
Я с детства собирал всякую старину и железяки. У меня все время было желание их куда-то приспособить. Что-то из этих коллекций осталось; среди них даже есть предметы, которые я собирал в 12 лет. В «Красном», по-моему, присутствует что-то из того времени.
Осознанно начал об этом думать, наверное, в 25 лет, после окончания театрального училища. Постепенно я понимал: приличные произведения не так легко создаются, как кажется. А ведь люди зачастую думают, что могут считать себя художниками или музыкантами — достаточно лишь назваться ими. Это тоже нормально, некоторые так и живут. И все же важно оставаться самокритичным, хотя тогда нужно иметь крепкую нервную систему. С другой стороны, при таком подходе у тебя есть шанс развиваться, но не быть нужным никому, кроме себя самого.
— «Красное» — последняя глава вашей трилогии. С тех пор, как вы показали его на Триеннале российского современного искусства в «Гараже» в 2017-м, вы дополнили его новыми предметами. Что это за вещи?
— В «Гараже» я просто показал по фрагменту от каждой части. А теперь желание одно: свести все части в большой проект, который будет литературно называться «Женское. Мужское. Красное». Не то чтобы я пытаюсь обозначить что-то как важное, а что-то — не очень и указать, что это — женское, а то — мужское. Я даю свой субъективный взгляд, потому что существуют вещи из женской жизни, которые я наблюдал, находясь в окружении мамы, сестры, подружек сестры, бабушек. Оказывается, когда ты живешь с этим опытом, по истечении какого-то времени память возвращает тебе его в виде картинок и воспоминаний.
Кто такой художник? Это тот, кто все время делает выбор. Я даю себе какое-то время на «утряску» и «усушку» мыслей. Потом может оказаться, что одни из них не так важны, а вторые могут беспокоить и приобретать четкую структуру, пока ты занимаешься совсем другим проектом. Сейчас ты не можешь, как раньше, взять один сюжет и долго о нем рассказывать, потому что время значительно ускорилось. Это не значит, что за ним надо гнаться, это значит, что сегодня мы просто живем по-другому.






— Но при этом все равно вышло, что ваша трилогия растянулась во времени.
— Ну конечно. Все началось с «Красного» — хотя оно и замыкающее — но при всей простоте проекта тебе лично эти красные предметы никто не предоставит. Все они моего поколения, и через них рассказывается история — история страны, если хотите. «Красное» — не совсем про ностальгию.
Эти «покраснения» в виде галстуков и флагов возникли не просто так. Это идеологически четко выдержанная программа, когда человека держат внутри словесных и визуальных образов, и чтобы он к этому привыкал, ему с детства дают какие-то нелепые красные игрушки. Но ведь в реальности мишка или черепашка имеют совсем другие цвета. Хотя можно, конечно, пошутить, что они покраснели от стыда. Красный фигурирует в разных контекстах, но мы спроектированы на потреблении этого цвета с определенным значением. И какой-нибудь серый редко делают символом, а вот красный — делают. Он, получается, такой контрапункт.
— Что нужно знать зрителю, чтобы смотреть на ваши работы?
— Когда ты воспринимаешь искусство даже такого великого пейзажиста, как Шишкин, надо знать определенные культурные коды. Он был знатоком природы, анализировал особые ее состояния — закаты, восходы — и создавал драматические сцены за счет света. Это самые сильные состояния натуры, кульминационные, и люди от них в восторге.
Возвращаясь к красному цвету: ведь не я это все придумал, я просто собрал вещи и определил их расположение в инсталляции. Если хочешь разбираться в современном искусстве, ты должен быть в какой-то степени образованным. В противном случае тебе придется говорить: «Я этого не понимаю», «Мне это не нравится». Некоторые гордятся такой позицией, и если говорят о современном, то начинают как бы упрощать его, потому что для них это заумь.
Что такое современность? Это новые языки, это междисциплинарность. Скоро все формы настолько сольются, что устанешь определять, к какому виду искусства относится то или иное. Пиотровский считает, что никакого современного искусства не существует, есть просто отдельные части общего. Но мне не хочется так говорить, потому что тогда можно вообще все свалить в одну кучу, и разобраться в этом будет сложно. Проблема находится, скорее всего, на уровне интерпретации искусства.
— Был ли какой-то поворотный момент, после которого вы направились в сторону создания реди-мейдов и инсталляций? При этом вы продолжаете заниматься живописью.
— Мне никогда не было интересно традиционное искусство. Я работаю в разных медиумах и могу своими руками создать объект или скульптуру. Как любому амбициозному человеку мне неинтересно уже созданное и увиденное когда-то. Художник ищет свою выразительность, а выразительность — это некое внутреннее беспокойство. Ты узнаешь, что нечто, что ты сам хотел бы сделать, уже сделано, и если не опустишь руки, то начинаешь в этом барахтаться, а потом уже легко плаваешь от берега до берега. Остальное зависит от того, какой у тебя человеческий опыт. Главное, что тебя волнует как художника. Я не имею в виду ремесло, которое ты уже освоил — дело в правде, которую ты имеешь право отстаивать.
У меня театральное образование и простая специальность, но звучит красиво — художник-бутафор. Я ставил спектакли, а потом и кино, что значительно расширило пространство моего творчества. Я даже режиссерам в хорошем смысле стараюсь что-то иногда подсказать, хотя не все это любят, потому что многие из них привыкли смотреть на формат картинки через актеров.
— Какие взаимоотношения вы выстраиваете между живописью и скульптурой в своей работе?
— Сначала я создавал очень самостоятельные объекты, ассамбляжи. А как в скульптуре выйти на объем? Ты начинаешь идти от плоскости картины, делаешь барельеф, горельеф, постепенно добавляешь объем, а потом доходишь до потребности в самостоятельной форме. Мои проекты достаточно сложные, и я стараюсь соединить разные медиумы, чтобы зритель начал смотреть мою выставку с традиционной части — живописи и смог дойти до объекта, к которому он не очень готов. Получается, я провожу вот такой ликбез, потому что для меня важно создать среду. И именно поэтому мы основали «Смену». Если бы это не имело для меня значения, можно было бы уехать в Нью-Йорк и биться там, как Яеи Кусама. Но я не способен на это, я прагматичный. Нужно быть отвязным, чтобы отстоять свой безумный мир, который тебе кажется реальнее реального.
Художник пытается всем объяснить этот сочиненный мир, а его критикуют, мол, ты неправильно композицию построил. Есть такая штука: люди, не умеющие рисовать, начинают рисовать с ресниц, потому что впечатляются глазами. Еще и голову не построят, а уже глаза рисуют. И дети рисуют точно так же. Но ведь искусство работает с целым, универсальным. И когда ты не умеешь этим оперировать, то, конечно, будешь говорить: «Мне не нравится, как ты написал глаз». Нравится или нет — вопрос вкуса, и к искусству это отношения не имеет. Ведь бывают художники, которые на фоне своих сверстников очень неприятны для восприятия — тот же Мунк, например.







— Мне кажется, он и сейчас остается сложным для зрителя.
— В этом и есть его психофизическое состояние, которое он как честный человек транслирует. А вспомните Фрэнсиса Бэкона. Если мы будем выставлять только цветочки и все красивое, где в этом человеческое? Мы разве все белые и пушистые? Нет. Искусство — не просто терапия. Оно — про жизнь, про грязь, про небо, про подземелье. Мне хочется, чтобы люди поняли, что искусство это не то, что ласкает их и спасает от жизни. Человек должен прямо смотреть на вещи и события, а искусство только помогает в этом.
— Вы работаете с фигуративным (подражающим видимому миру, — прим. Enter) искусством: создаете человеческие скульптуры, часто используете найденные объекты, которые раньше выполняли утилитарную функцию. Интересно, почему при вашем дадаистском (дада — художественное явление, возникшее в Цюрихе в 1916 году на фоне ужасов войны и строившееся на противоречивых принципах: от отрицания самого искусства и любых канонов до наделения статусом искусства предметов быта, — прим. Enter) подходе к предмету вы не выбрали абстрактную форму?
— Если бы я родился тогда, когда дада зародилось, я бы, конечно, был его участником, и, может быть, тоже раздвигал границы. Сегодня я использую этот язык, потому что художник, по большому счету, как копилка: он собирает не только предметы, но и историю искусства. Все, что мы делаем, уже сделано какими-то художниками, все ощущения уже проверены. Не проверено только то, что сделаешь ты сам. У меня есть работы, в которых я использую разные эстетики в искусстве, близкие мне. Эстетика и этика художника — дело выбора. Сначала ты выбираешь, а потом оказывается, что ты становишься благодаря этому кем-то еще — может быть, даже тем, кого недоставало внутри какого-то течения.
Сюрреалистов я тоже люблю, но больше, наверное, абсурдистов: Кафку, Ионеско, Хармса. Мне нравится ход их мысли, когда все начинается с простого механического действия и затем уходит в дебри бессознательного и путешествует там. Здесь ты уже не можешь объяснить, о чем они хотят сказать, но солидарен с ними. Такой художник может пойти дальше и нарушить этику, и это очень круто. Он может иногда нарушать традиции, как Малевич, который сказал, что нужно закрыть вопрос о живописи. Художнику это необходимо, чтобы его вписали в канон. Но сегодня время манифестов закончилось, и, скажем, фраза Кабакова «в будущее возьмут не всех» мне кажется стебом. Тут надо вспомнить великого Станиславского: «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Второй вариант не для меня. Я родился с любовью к искусству, и я культивирую ее. Некоторые художники занимаются воспроизводством себя: у них есть статус и есть узнаваемый язык, их уже мало что колышет. Но нужно помнить, что все очень эфемерно.
— Мне кажется, один из самых запоминающихся объектов из ваших последних проектов — часть инсталляции «Упаковка» (2017 год): пальто, из которого навстречу зрителю протянута рука. Почему именно рука?
— Чтобы это придумать, нужна некая провокация. В детстве я видел, как эти пальто упаковывают, и это меня пугало. То же самое я испытывал, когда видел, как пеленуют младенцев. Я был очень чувствительным ко многим визуальным образам и способам жизни.
Помню, мы с мамой покупали ей пальто. И его так ловко скрутили — вроде была одежда, а превратилась вдруг в жуткий обрубок. Я увидел в этом много смыслов. Например, «человек упакованный» значит человек хорошо выглядящий, а словосочетание «запаковать человека», означает лишить его всего, «закрыть» — слово из тюремного сленга. И все это синонимы. Одновременно я делал объект — руку. Она появляется внутри разной одежды — в кителе, в пальто. Получается такой фантомный след: человек из советского времени здоровается с нами. История «Упаковки» — о шестидесятых годах, когда пальто было не столько признаком материального достатка, сколько духа, способности человека сделать что-то. Получается, что мой персонаж с рукой «распаковался» и здоровается — то есть он спасся с нами.
Интерпретаций «Упаковки» я слышал уже штуки четыре. Поэтому я говорю, что бэкграунд зрителя важен. Когда ты смотришь на работу, твой личный опыт и знание культурных кодов сходятся, и с тобой что-то происходит. Ты становишься частью увиденного: не просто видишь и радуешься, что художник что-то умеет, а понимаешь, что это создано и для тебя тоже.

— То есть вы согласны с тем, что говорил Марсель Дюшан? У него есть высказывание о том, что созерцатель произведения искусства делает 50% работы.
— Да, согласен.
— А может ли произведение жить само по себе, без участия зрителя?
— Произведение физически само по себе может существовать, но история показывает, что зритель все равно существует. Не из-за того, что художник амбициозный, а оттого что природа так устроена: человек существо коллективное. Как идеалист, каждый художник ищет соратника, который не похвалит его, а поддержит и скажет: «Я так же мыслю, просто у меня руки не оттуда растут. Но это абсолютно мое». Мы же помним, откуда появился интерактив — перформансы и хеппенинги? В том числе и наши великие «Коллективные действия», в акциях которых была важна коммуникация. Что интересного во всем этом? Общение. Искусству нужен зритель, не благодарный, а адекватный, который готов к восприятию, как ты. Если ты еще сомневаешься в своей работе, то тебе поможет зритель, скажет: «Это классно. Это важно». Без него искусство давно выродилось бы.
У меня в мастерской на стене написана фраза Ницше. Не уверен, как она точно переводится, но я произношу ее так: «Искусство — это единственное оправдание человеческой жизни». Звучит пафосно, но я давно задумывался: а что еще, если не это? Семью растить и родину защищать от придуманных врагов? Удовлетворение получаешь только в искусстве.
— С кем вы ведете диалог в искусстве?
— Я когда-то полюбил Джорджо Моранди. Я не знал, что он культовый художник, мне просто понравилась его простота. Я увидел его репродукции в альбоме, который продавался в магазине «Дружба народов». Мне показалось, что это наивно, но очень трогательно. Потом на «Документе» (международная выставка современного искусства, которая проходит каждые пять лет с 1955-го года в немецком городе Кассель, — прим. Enter) я уже более тщательно посмотрел его работы. Там были и предметы, которые он рисовал. Я даже сделал оммаж Моранди, написав натюрморт со старыми бутылками. Повторять художника значит приблизиться к нему по ощущениям, но совсем не подразумевает простое его копирование. Я схож с Моранди, потому что сам собирал старье. Я люблю эти вещи, ведь они — носители времени и рассказывают мне историю, а я чувствителен к этому. Современные предметы тоже воздействуют на меня таким образом, только через современность я высказываться пока не хочу. Но обязательно доберусь до этого.
Из тех, кто мне еще близок, — это Фрэнсис Бэкон и Марк Ротко. После них Кандинский кажется карнавалом в хорошем смысле слова. Ротко поражает своей брутальностью. Это как в музыке: я любил «Битлов», пока не услышал Мика Джаггера. Это не значит, что я перестал любить первых. Но желание художника вытащить наружу то, что неприлично — важно. Я сам такой, но тут, где я живу, многие темы табуированы, мне людей жалко: они настолько крепко держатся за свое невежество, что просто боишься их обидеть.
— Следующий вопрос касается архивации искусства. Какую форму в конечном счете должна принять «антология советского человека» (как вы назвали это в своем прошлом интервью), которой вы занимались в своем творчестве последнее время?
— Скорее всего, это превратится в книгу. Это будет не просто каталог. Я понимаю, каким образом люди входили в страшные истории — вроде Германа с его последним фильмом или Норштейна, который бесконечно снимает фильмы про Акакия Акакиевича. И с трилогией получилось примерно так же: сначала появилось художественное высказывание, потом я добрался до архивной части, слегка состарился и сам уже стал предметом исследования. Получается, что тебе нужно либо поставить точку и выбраться из этой истории, либо усложнить ее. Представляете, как это может быть издано: красивая коробка, в которую вложены картинки с выставки и архивные документы. Но это уже чисто антропологическая история, конечно. На это нужно откуда-то взять силы и средства.
— Последние годы вы много времени посвящаете созданию музеев и обновлению экспозиций уже существующих. Что это за музеи? Можете рассказать об этом подробнее?
— Мы не просто обновляем, а полностью меняем экспозицию. Началось это с музея Горького, потом нас пригласили заняться музеем Толстого. Позднее мы взялись за краеведческий музей в Болгарах, который был начат дворянами Лихачевыми, а позже утрачен. Коллекции не было, и я ходил по блошиному рынку, докупал предметы. Мне нужно было создать атмосферу дворянства. Этого не удалось достичь на 100%, потому что дом, в котором располагается музей, не дворянский, а мещанский. Даже больше — это жилой домик для четырех человек.
Многим музеям я помогал делать отдельные объекты. Эта работа меня обогащает, так же, как и работа с кино. Я был художником-постановщиком семи фильмов. И сейчас на подходе ещё один, основанный на серьезном материале про Казань 80-х.
— Это ваши ближайшие планы?
— Да. У меня проекты идут один за другим, даже передохнуть некогда. Хотя я считаю, что лучший отдых — это хорошая работа. В искусстве для меня важен сам процесс. Когда все срастается, это просто счастье.
Фото: Даниил Шведов
все материалы