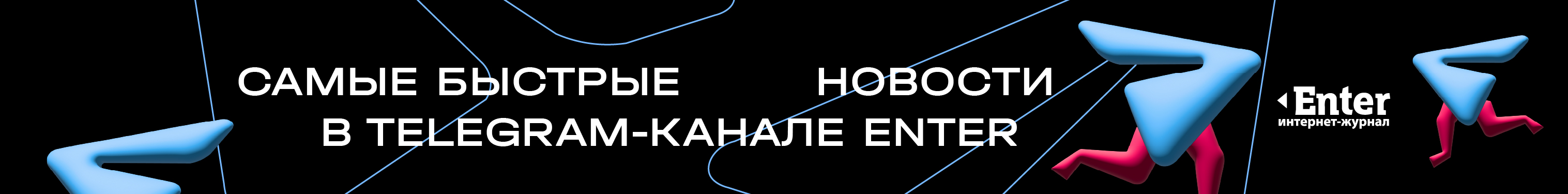Режиссер Мацей Дрыгас — о правде в документалистике и польском рэпе
В июле на острове Свияжск прошел III Фестиваль дебютного документального кино «Рудник». Одним из членов жюри фестиваля стал режиссер-документалист Мацей Дрыгас. Enter встретился с ним, чтобы поговорить об ответственности перед своими героями, сходстве работы документалиста и археолога, а также Лодзинской киношколе.

Мацей Дрыгас (1956, Лодзь) — режиссер, сценарист, автор фильмов «Чужие письма» (2011), «Один день в ПНР» (2005), «Абу Хараз» (2012), победитель международных фестивалей и профессор Лодзинской киношколы. Документальные фильмы и радиопостановки Дрыгаса транслировались по теле- и радиоканалам Европы, Канады, Бразилии и Австралии.
— Понятия «документальное кино» и «реальность» зачастую идут рука об руку. Используете ли вы по отношению к своей работе слово «реальность» и как можно очертить его рамки?
— Здесь можно использовать более простое слово — «правда». Я создаю на основе какой-то, как вы говорите, реальности свой авторский фильм — можно сказать, беру зрителя с собой в экскурсию. Сегодня я показывал вам только те работы, которые делал из архивных материалов, но есть и такие, где я просто наблюдаю за какой-то историей. В моем понимании есть реальная правда события или ситуации, и есть правда документального кинорежиссера, который пропускает этот мир через свою душу. В таком ракурсе можно рассмотреть два жанра: репортаж, являющийся записью события один-к-одному, и документальный фильм, когда реальности при помощи авторских жестов, конструкций и наррации придается более высокая значимость.
— Вы рассказывали, что ваш подход к созданию фильма напоминает, скорее, работу археолога, чем режиссера. Вы узнаете огромное количество историй и годами изучаете темы, которым посвящаете кино. Как структурируете свою работу?
— Если мы говорим про фильмы, которые созданы из большого количества архивных материалов, то, действительно, я чувствую себя больше археологом, чем киношником. Первое, что нужно сделать, — провести тотальное исследование. Каждый раз я пытаюсь находить материал в неизведанных местах, потому что это открывает новые пути. Во время работы над «Одним днем в ПНР» таким источником для меня стали частные архивные материалы, снятые на пленку Super 8, а в «Чужих письмах» это архивы киношколы. Вдруг оказалось, что есть большое количество информации о ПНР в документальных этюдах студентов, среди которых были очень тонкие художники. В то время в школе было меньше цензуры, и я нашел много сильного материала.
То есть, сначала поиск — с одной стороны, киноматериалов, с другой — документов, если они являются частью либретто. Знаете, я делал «Один день в ПНР» около пяти лет, из которых примерно четыре года вел поиски: приходил в архив и просматривал тысячи папок. Меня интересовала только одна дата — 27 сентября 1962 года. Когда она попадалась, я останавливался, переписывал, сканировал и так далее — мне нужно было найти огромное количество свидетельств, связанных с этим днем. После того, как собрана большая масса изобразительных и текстовых материалов, можно приступать к работе над структурой.
В «Одном дне в ПНР» довольно много общих планов толпы, и документы хорошо монтировались с этими сценами. Но в «Чужих письмах» вдруг оказалось, что сами письма сильнее, чем картинка: они буквально выплевывали изображение. Тогда я начал методом перебора искать героев для каждого эпизода. Например, тот кусочек в деревне, который вы видели, создан из фрагментов десяти-пятнадцати фильмов, но создается такое впечатление, что женщина на экране — автор письма, что читается за кадром. Иногда там случаются смешные моменты, как тот, где она рассказывает, что ее мама упала…
—… и тут мы видим, как курица хромает на ту же ногу.
— Вы это заметили. Нельзя сравнивать такую работу со съемкой игрового фильма, но в ней точно присутствует большой творческий элемент. Можно сказать, что я выстраиваю целый мир из разрозненных материалов. Потом, когда уже есть определенное количество эпизодов, мы начинаем склеивать их и смотрим, как они взаимодействуют. На этом этапе включается настоящий инженерный анализ. Дальше я рассматриваю структуру фильма через три драматургические линии. Первая — линия сторителлинга. Я смотрю, как на этом уровне срастается информация: как одно письмо сталкивается с другим, что мы знаем и что еще должны узнать из сюжета, и как благодаря этому выстраивается драматургия. Вторая линия — смысловая, через которую я задаю себе вопросы: к чему ведет тот или иной эпизод? О чем он и что означает?
Третья — наверное, самая важная для меня линия — эмоциональная. Я измеряю «температуру» кадров и эпизодов и определяю, где холодно, где тепло, чтобы достроить драматургическую линию, в которую я все-таки начал втягивать зрителя. Это не значит, что она постоянно должна лететь вверх — она может выглядеть как синусоида, когда какой-то более «холодный» материал опускает ее вниз и делает эмоциональный всплеск сильнее. Здесь снова включается инженерный анализ. В своей жизни я работал с лучшими монтажерами. Мы сначала изучали материал, смотрели и делились тем, что в нем видим; потом выстраивали очередные эпизоды и рассматривали, как они складываются друг с другом. Такой длительный, и, я бы сказал, непростой процесс.
Для того, чтобы эмоциональная линия имела свою силу, очень важно создать подходящий звуковой ряд. Я сотрудничаю с нашим крупнейшим композиторoм, который пишет в основном симфоническую музыку, — Павлом Шиманским. Помимо музыки есть еще фоновые и синхронные шумы. У меня огромная фонотека — я коллекционирую звуковые материалы со времен ПНР.
— Насколько, по-вашему, должно ощущаться присутствие режиссера в кино, должен ли он участвовать в той жизни, которую показывает зрителю?
— Первый вопрос касается этической стороны, и он очень важный, потому что мы живем в мире, где все выставляется на продажу. Давно забыты этические границы, а информация является товаром и часто публикуется в медиа довольно бессмысленным образом. При этом чем она страшнее, тем лучше для медиа. Я, наверное, немного из мира динозавров, но считаю, что мы в ответе за своих героев. Студентов киношколы я учу тому же. В игровом кино намного проще: ты не отвечаешь за жизнь персонажа после окончания съемок. А в документальном ты должен сделать хороший фильм и в то же время не сломать жизнь человеку.
Кажется, что это очень простая вещь — не обидеть человека. Но стоит подумать о том, что может произойти, скажем, через двадцать лет, когда маленький ребенок из фильма станет взрослым. Об этом особенно важно помнить, если касаешься трудных тем. Как не пересечь этическую границу? Знаете, Кшиштоф Кесьлевский ушел из документального кино, потому что уже не выдерживал. Очень часто я советую своим студентам: это хорошая история, но лучше взять ее как основу игрового этюда, потому что иначе можно сделать своему герою больно. Это все очень непросто.
Сейчас популярны фильмы о людях с инвалидностью. Если кто-то из моих студентов приходит с такой идеей, я у него спрашиваю: если бы у этого человека были ноги и руки, ты бы пошел к нему? Если да, то почему? Если ответ «да» — то пожалуйста, снимай. Но если ты идешь только потому, что он без ног, этого маловато для фильма. Я предпочитаю бояться за героев.
Вторая часть вопроса — насколько можно вмешиваться в мир, о котором ты делаешь кино. Все, что мы снимаем, есть вторжение, как бы мы на это ни смотрели. Ты вмешиваешься в жизнь и пропускаешь эту действительность через свое видение, даже просто ставя камеру и выбирая план. Есть один деликатный момент: когда ты становишься наблюдателем очень трудной ситуации, встает вопрос — нужно ли выключить камеру и помочь человеку?
Я недавно смотрел материал, где снималась женщина после какого-то страшного паралича. Ее муж тоже с инвалидностью, но не такой степени, как у жены. У них был ребенок лет десяти, и он больше ходил за отцом, чем за матерью, потому что ему было немного стыдно за нее. В какой-то момент она попросила миску, чтобы поесть, но сын был погружен в компьютерные игры и не захотел помогать. Следующие пять минут обернулись ужасным скандалом. У меня было впечатление, будто только что посмотрел сквозь замочную скважину на чью-то интимную жизнь. Я лично выключил бы эту камеру и дал женщине миску. Разные документальные школы учат по-разному. Я из той, где боятся и переживают за других людей, ведь ты влезаешь в чью-то жизнь, чтобы поласкать свое эго, сделать мощный фильм, поездить по фестивалям, но оставляешь пейзаж после битвы. Пытаюсь обращать внимание на это.

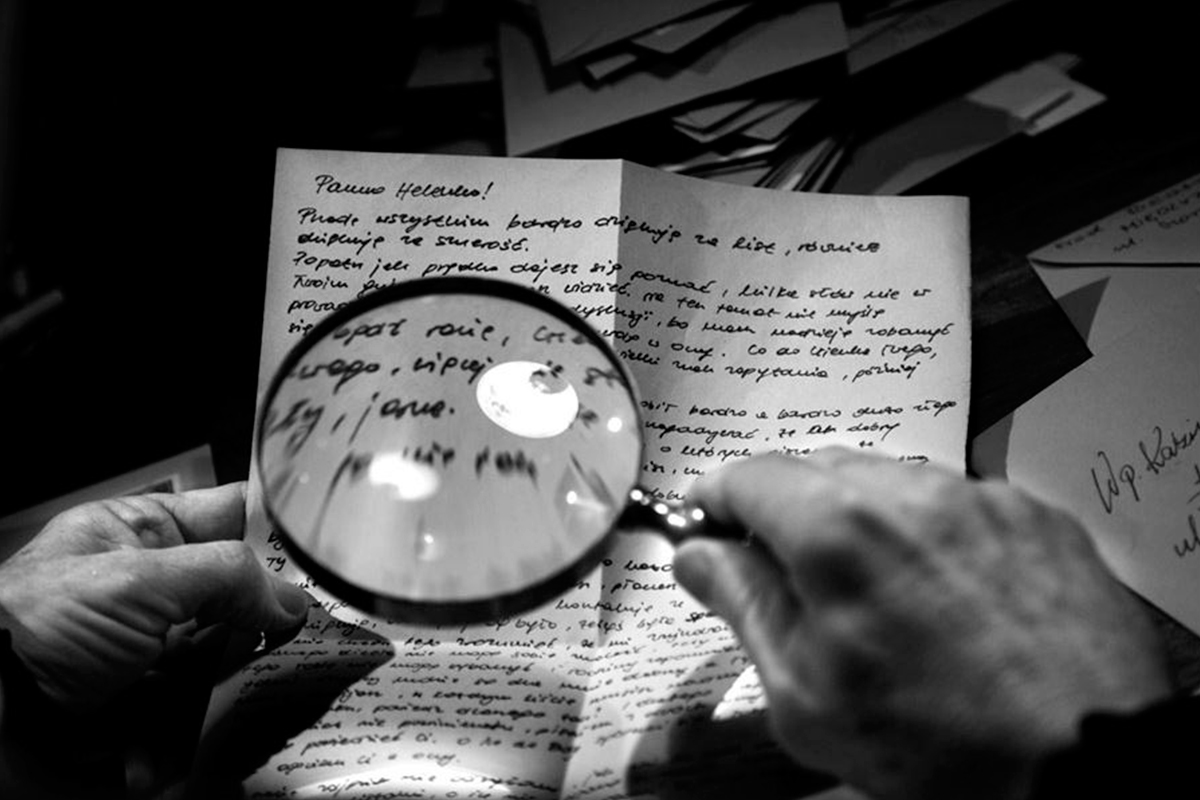


Кадры из фильма Мацея Дрыгаса «Чужие письма» 2010-го года
— Можно сказать, что новое российское документальное кино стало формой политического и социального высказывания. А что происходит в документальном кино в Польше, есть ли какие-то тенденции, которые вы замечаете?
— У нас в Польше абсолютно другая ситуация. Конечно, там сейчас непростая жизнь, потому что политическая стачка, происходящая между партией в правительстве и той, что в оппозиции, страшно разобщает народ. Люди, которые раньше делали что-то совместно, теперь не разговаривают друг с другом. Но это отражается больше на телевидении. Есть телевидение, имеющее публицистическую направленность и связанное с оппозицией. Грустно, что оно стало политизированным. Но так уж случилось. Что касается кино, то здесь цензуры нет. Единственно возможная цензура — это когда кто-то может подать в суд за оскорбление своих чувств.
Огромным толчком для развития был момент, когда удалось пропустить на рассмотрение парламента устав о кинематографе. Мы десять лет, еще с 90-х, собственными руками боролись за его принятие. На основе этого документа мы не пользуемся государственными деньгами, а имеем средства, которые нам должны отдавать дистрибьюторы от продажи билетов и рекламы. Иными словами, если люди ходят в кино, есть деньги на создание фильмов. И вдруг оказалось, что этих денег много.
Кардинально изменилась финансовая ситуация, когда стал работать Польский Институт Кино: помимо чиновников, которые там заведуют, мы, эксперты, читаем присланные заявки, пишем на них рецензии и решаем, на какие проекты выделить бюджет. Каждый год у сообщества интересуются, кого оно хочет видеть в комиссии документального, художественного кино и так далее. Самих комиссий существует много. Благодаря этому появилась прозрачность, потому что наши рецензии всегда можно прочитать. Помимо этого, мне больше не нужно благодарить какого-то чиновника и надеяться, что он даст деньги на фильм. В этом году я являюсь лидером одной из комиссий документального кино, и вы должны мне поверить, что на хорошие проекты просто выделяются деньги. Режиссеры чувствуют себя свободно.
Новые возможности открылись и для молодых режиссеров. Существуют специальные дебютантские программы — причем и для игрового, и для документального, и для анимации. Моим студентам намного легче входить в кино, чем нам когда-то. Сейчас в польском кино происходит явная смена поколений.
Вчера или позавчера я рассказывал молодым российским режиссерам, что очень важно в этой профессии быть отважным. Как только уходишь в сторону конформизма, ты сразу убиваешь себя как художника. Я видел это, когда учился во ВГИКе. Среди моих коллег были такие, кто говорил: «Знаешь, я снял эту ленту так, чтобы она прошла проверки, а потом закончу ВГИК и буду делать свои фильмы». Но это неправда. Если ты раз предал себя, потом уже очень тяжело вернуться к себе. На первых занятиях я всегда говорю своим студентам: «Бунтуйте против меня. Я не пришел сюда, чтобы сделать восемь своих копий. Давайте вступать в полемику, ломать, работать своим животом и душой». Если посмотреть в этом разрезе на кинематографическую среду в России, тут все очень непросто. Здесь есть немало конформизма, который я помню еще со вгиковских времен. Но в конечном счете история помнит только тех, кто был наиболее выразительным.
Когда мой сын интересовался рэпом, я любил слушать эту музыку вместе с ним. Польский рэп делают ребята с тяжелым прошлым, из невзрачных районов, где закрылись шахты и чьи родители остались без работы. Их песни — документальная правда и настоящий крик души. Иногда мне кажется, что такого рэпа не хватает в кино. Я не имею в виду публицистику в стиле «все плохо». Всегда интереснее, когда в фильме есть конфликт, и герой, находящийся в неоднозначной ситуации, привлекательнее сладких портретов.
— Вы предугадали мой следующий вопрос. Я хотела спросить, какие советы вы даете своим студентам, и какие задания они должны выполнить.
— Я могу добавить. Первая особенность нашей киношколы заключается в том, что у нас нет системы мастерских.
— То есть человек не учится у одного и того же преподавателя все годы обучения.
— Да. Каждый год они разные. У нас нет отдельного игрового и документального направления. Это значит, что студенты должны снять на одном курсе и документальный, и игровой фильм, что хорошо влияет на их развитие. Поскольку каждый год у них меняются и профессоры игрового, и документального кино, они встречаются с разными школами, и каждая из них имеет свой вкус. И если какой-то педагог будет токсично вести себя с кем-то из учеников, то это только на год. То же самое и для нас: если попадется токсичный студент, то только на время.
Я очень прошу своих учеников, чтобы они активно входили в повседневную жизнь, потому что нет ничего более плодотворного. Если стоишь в очереди или едешь в поезде, не смотри в экран телефона, а лучше поговори с людьми. Это фундамент для режиссера, из него можно создать даже научную фантастику.
— Что ценно для вас в работе в документальном кино?
— Я никогда — наверное, это страшно звучит — не думаю о зрителях: кто они и сколько их будет. Если предстоит проработать над фильмом четыре-пять лет, я задаю себе вопрос: насколько эта история открывает мне двери в другую жизнь? Это для меня принципиально. В этом смысле документалистика дает возможность новых путей и знакомит меня с людьми, а если фильм путешествует по миру, по фестивалям, то это дополнительный бонус.
— Два года назад вы начали писать книгу, и у вас за плечами сотни услышанных историй. Не было ли желания описать в книге опыт, который накопился за годы работы с документальным кино?
— У меня мечта — постепенно уходить из кино и начинать писать книги. Но не о себе и своем опыте, потому что я не могу представить, что сижу и весь год занимаюсь только собой. Раньше я делал документальные радиопьесы, мне это очень нравилось. Даже был момент, когда я преподавал радиодокументалистику. Я не учился радио, а просто применил весь свой киношный опыт. Это почти как делать фильмы для слепых. С другой стороны, я сотрудничаю с одним хорошим журналом в Польше, который выходит раз в несколько месяцев — «Картой». Он издавался подпольно еще при коммунизме, имеет историческую направленность и занимается дневниками, письмами.
Я каждый раз что-то отдаю редакции этого журнала. Недавно отдал пятьдесят пленок своих записей разговоров с космонавтами. У них получилось тридцать страниц текста на основе этого материала, и он будет главным в выпуске.
Что касается книги, то я ее почти закончил. Я исследовал документы и встречался с людьми в Баку: недалеко от него есть поселок Балаханы, где когда-то находилось большое нефтяное Эльдорадо. Братья Нобель и другие люди открывали там свои вышки, а потом через Балаханы прошли все эти истории — и пятый год, и семнадцатый. Все погорело. Сейчас остались заржавевшие башни, но некоторые все еще работают. Я обнаружил там интересный мир, и моя книга состоит из глубоких разговоров с разными людьми оттуда, а где-то рядом будет виднеться пейзаж после битвы.
Фото: Кирилл Михайлов; Polski Instytut Sztuki Filmowej, Drygas Production, Telewizja Polska
все материалы