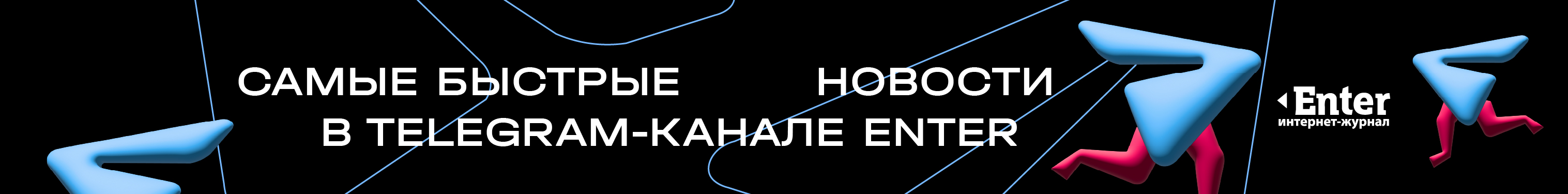«Частные случаи»: Почему помочиться в писсуар — искусство
Впервые за всю историю совместной издательской программы «Ад Маргинем» и «Гараж» издали электронную версию книги «Частные случаи» известного искусствоведа Бориса Гройса в переводе Анны Матвеевой. Она состоит из эссе о значимых произведениях искусства XX века: начиная писсуаром-фонтаном Дюшана и заканчивая виртуальным государством NSK.
С разрешения издательства Enter публикует отрывок из книги о том, как связан акт мочеиспускания в писсуар в музее с современным искусством и насилием над вещами. Полную версию книги можно прочесть на Bookmate и ЛитРес.

Манифест и серия работ «Права вещи» («Thing’s Right(s)») Инги Свалы Торсдоттир и Ву Шаньчжуаня — авторская переработка Всеобщей декларации прав человека 1948 года — нацелены в самое сердце западной культурной традиции: на взаимосвязь искусства и прав человека, Великой французской революции и эстетического созерцания, привилегирования людей и привилегирования произведений искусства. С этой интервенции Торсдоттир и Ву в западную художественную традицию я хотел бы начать свой текст. Их интервенция носит характер протеста, полемики. Его главная мишень — практика реди-мейда в том виде, в каком ее ввел в оборот Марсель Дюшан. Искусство Дюшана довольно давно стало мишенью для художественных акций Торсдоттир и Ву: в 1992 году, впервые став соавтором Торсдоттир, Ву помочился в один из подписанных Дюшаном писсуаров, выставленный в стокгольмском Moderna Museet. Акцию они назвали «Appreciation» — «Признание». Можно сказать, что это был акт насилия. Но очевидно, что этот акт был реакцией на определенное насилие, которое сам Дюшан применял к вещам, вырывая их из изначального бытового контекста и помещая их под именем «реди-мейдов» в пространство музея. Можно сказать, что художественный выбор Дюшана (несправедливо) привилегировал одни вещи в противовес другим: например, конкретный писсуар в противовес всем прочим писсуарам. Ведь если даже некоторые искусствоведы считали, что практика редимейда стирает границу между музеефицированным искусством и повседневной реальностью или между произведениями искусства и бытовыми вещами, выбор конкретного писсуара (или нескольких конкретных писсуаров) не эмансипировал его собратьев, которые так и остались на своих обычных местах в туалетах по всему миру. Однако главное несогласие Торсдоттир и Ву с практикой реди-мейда заключается в другом. Для этих художников истинное «признание» вещи есть именно использование этой вещи по назначению. С этой точки зрения Дюшан оскорбил писсуар, запретив людям пользоваться им. Реакция Торсдоттир и Ву на действия Дюшана напоминает о противопоставлении «ритуальной ценности» и «выставочной ценности», описанном Вальтером Беньямином. Действительно, бытовое использование писсуара можно считать неким ритуалом, который дефункционализация писсуара в выставочном пространстве отрицает и разрушает.

Акт насилия, который вырывает предмет из непосредственного контекста повседневной жизни, изолирует его и не позволяет ему вернуться обратно в бытовую практику, своими историческими корнями уходит в насилие, практиковавшееся Великой французской революцией и ее идеологией прав человека. Наше современное понимание искусства произрастает из решений, которыми французское революционное правительство определяло судьбу вещей, доставшихся в наследство от старого режима. Смена режима — особенно такая радикальная, как Великая французская революция, — обычно сопровождается волной иконоборчества. Такие волны можно было наблюдать в случаях протестантизма, покорения испанцами Америки или в недавние времена после падения социалистических режимов в Восточной Европе. Французские революционеры пошли другим путем: вместо того чтобы уничтожать сакральные и профанные предметы, принадлежавшие старому режиму, они их дефункционализировали — или, иначе говоря, эстетизировали. Французская революция превращала вещи старого режима в то, что мы сегодня называем искусством, то есть в предметы не для пользования, а для чистого созерцания. Такой насильственный, революционный акт эстетизации старого режима породил искусство, каким мы его сегодня знаем.
Революционное происхождение модернистской эстетики концептуализировал Иммануил Кант в «Критике способности суждения», написанной им в 1790 году. В начале своего текста Кант (пусть и косвенно) отсылает к политическому контексту своей эпохи. Он пишет: «Если кто-нибудь спросит меня, нахожу ли я дворец, который находится передо мной, прекрасным, то я могу, конечно, сказать, что не люблю вещи, созданные только для того, чтобы на них глазели… могу сверх того высказать вполне в духе Руссо свое порицание тщеславию аристократов, не жалеющих пота народа для создания вещей, без которых легко можно обойтись… Все это можно допустить и одобрить; только не об этом здесь речь. <…> Для того чтобы выступать судьей в вопросах вкуса, надо быть совершенно незаинтересованным в существовании вещи, о которой идет речь, и испытывать к этому полное безразличие». Канту не нравится дворец как воплощение богатства и власти. Тем не менее он готов принять дворец в эстетизированном качестве, то есть на самом деле дефункционализированным, ставшим нерелевантным для любых практических целей — сведенным к чистой форме. Начиная с Великой французской революции произведения искусства понимаются как дефункционализированные и выставленные на обозрение публики вещи из прошлого. Такое понимание искусства определяет художественные стратегии и по сей день. Можно сказать, что Дюшан и другие художники реди-мейда расширили эту стратегию тем, что включили в нее и современную им эпоху: свою современность они рассматривали как уже прошлую, исчезающую реальность, которую можно с легкостью свести к чистой форме. И как чистая форма она становилась непригодной к использованию. То, что произведения искусства нельзя использовать, означает, что цель их лежит не вовне, а внутри их самих. В этом смысле произведения искусства — это «очеловеченные» вещи: у них есть «душа», которая делает их автономными. Современная гуманистическая этика основана на предпосылке, что человек никогда не может быть средством, а только целью. В этом смысле к произведениям искусства требуется относиться как к людям среди прочих вещей. Но можно сказать, что к людям относятся как к произведениям искусства среди других животных. Здесь видна глубинная и определяющая их судьбу взаимосвязь между автономией вещей и их формой. Вещи становятся охраняемыми произведениями искусства тогда, когда воспринимаются только как «формы», а не как утилитарные предметы, — а животные получают защиту от их использования, когда они имеют человеческую форму. То есть, говоря о правах вещей, Торсдоттир и Ву указывают на корень проблемы: взаимосвязь искусства и гуманизма. Но что такое, собственно, вещь?

По Мартину Хайдеггеру, только произведение искусства способно являть себя как вещь. В своем тексте «Исток художественного творения» Хайдеггер пишет, что изначально мы воспринимаем все вещи как «служебные». Иными словами, мы всегда воспринимаем их как предметы для возможного пользования — тем самым упуская из виду именно их вещность. Только искусство способно показать нам вещность вещей, вырвав их из контекста их бытового использования. Поэтому Хайдеггер пишет: «Вообще нельзя судить о вещном в творении, доколе творение не явилось со всей отчетливостью в своей чистой само-стоятельности. Но бывает ли доступно творение само по себе? Чтобы такое удалось, нужно было бы высвободить творение из связей со всем иным, что не есть само творение, и дать ему покоиться самому на себе и для себя». Но коль скоро наша возможность воспринимать произведение искусства как «покоящееся само на себе и для себя» зависит от решения высвободить его «из связей со всем иным», то такое решение должно быть ни на чем не основанным и беспрецедентным. Хайдеггер пишет: «Истина, творящаяся в творении, расталкивает небывалую огромность и вместе с тем опрокидывает всякую бывалость и все, что принимается за таковую. Истину, разверзающуюся в творении, никогда нельзя поверить бывшим ранее, никогда не вывести из бывалого. Все, что было прежде, опровергается творением в своих притязаниях на исключительную действительность. А потому то, что учреждает искусство, не может быть возмещено и оспорено ничем наличным, ничем находящимся в распоряжении. Учреждение есть избыток, излияние, приношение даров». И еще: «Чем существеннее это побуждение входит в разверстость, тем более странным и тем более одиноким становится творение».
То, что являет себя в этих строках как простое описание, — это, очевидно, нормативное утверждение: произведение искусства невозможно понимать как принадлежащее прошлому, оно не соответствует привычному восприятию. Хотя сам Хайдеггер не обладал особенно «прогрессивным» художественным вкусом и очевидно предпочитал умеренный экспрессионизм, в его теории искусства тем не менее привилегировано радикальное, авангардное, новаторское искусство — привилегировано потому, что оно побуждает художника производить нечто решительно «небывалое». Небывалое здесь, очевидно, означает не просто историческую инновацию, но извлечение произведения искусства из бывалого, обычного. Хайдеггер здесь говорит на языке, очень похожем на язык Дюшана: мы можем увидеть писсуар как вещь только тогда, когда освободим его от бытового использования. Или же писсуар становится вещью лишь после того, как он превратился в произведение искусства. А раньше он был просто служебным инструментом. Иначе говоря, распространить права человека, как их понимала Великая французская революция, на царство вещей означает дефункционализировать их — чтобы эти вещи можно было только созерцать, но не использовать. Говорить о правах вещей с такой позиции означает превратить всю повседневную жизнь в целом в произведение искусства или в музейное пространство, или же полностью ее разрушить. Именно это и есть та проблема, к которой обращаются Торсдоттир и Ву в проекте «Права вещи» («Thing’s Right(s)»). Но прежде чем обратиться к этой проблеме, необходимо обсудить следующий вопрос: способна ли система искусства гарантировать вещам их вещность, полностью освободив их от служебной роли инструментов?
Изображения: Саша Спи
все материалы