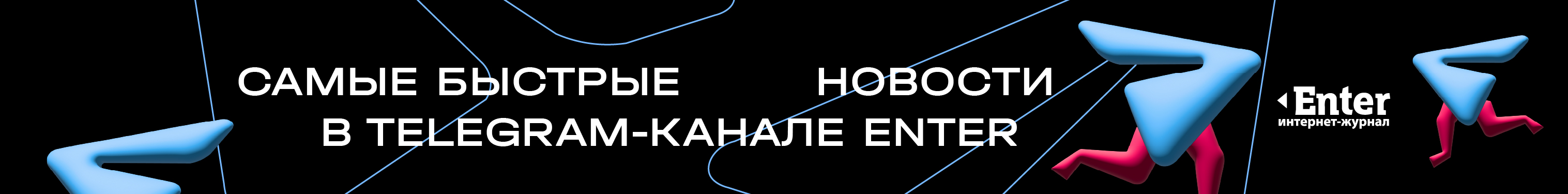Странные танцы: Зачем российские танцоры разбрасывали землю, скидывали мусор и «рожали» на сцене
В последние недели в соцсетях развернулись дискуссии о составляющих русской культуры. Точно можно сказать, что на нее сильно повлияли «транзитные» девяностые — время, когда все советское поломалось, а новые идеи строились хаотично.
Получив свободу, российские танцоры «стебались» над всем советским и устраивали сумасшедшие перформансы — но ровно до тех пор, пока нефтяное изобилие не потребовало создать новый культурный миф. О том, как это было, в сборнике «В защиту мейнстрима» рассказывает историк культуры Ирина Сироткина. Мы публикуем этот отрывок с разрешения V—A—C press.
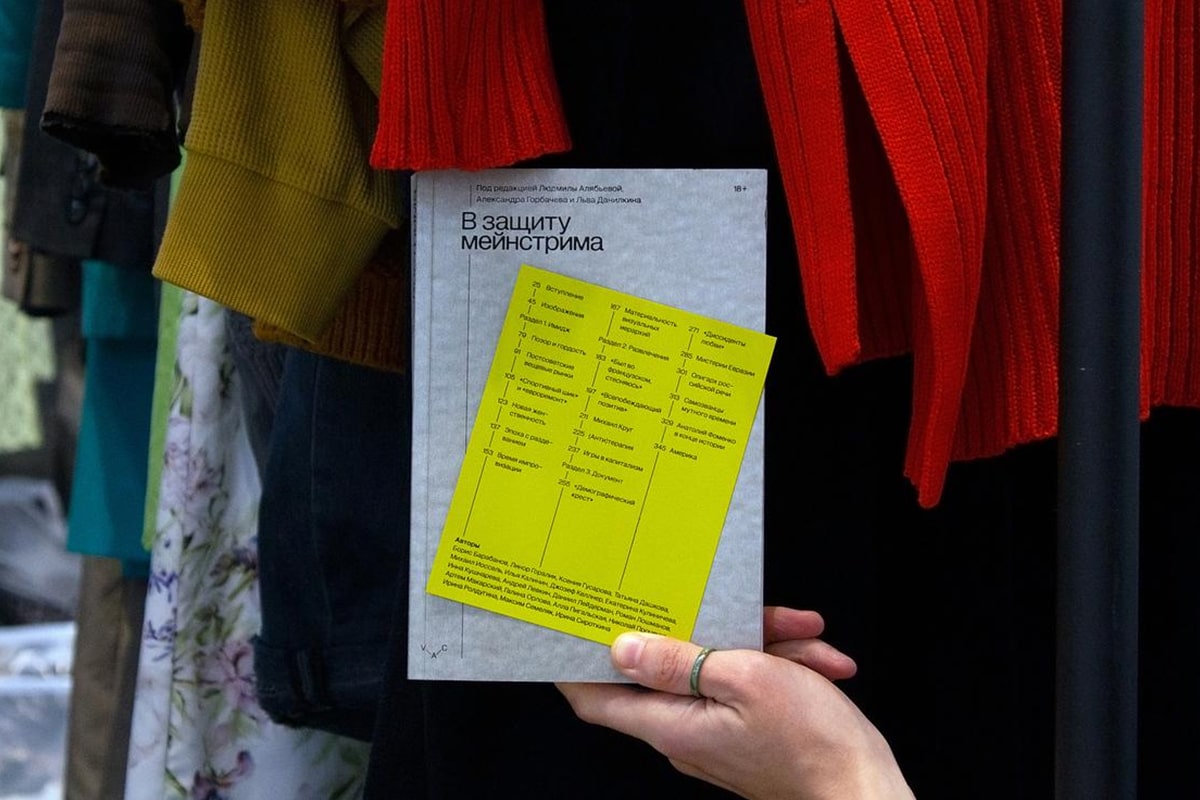
Поэт Велимир Хлебников в начале ХХ века пытался вывести числовые законы истории. Кажется, среди них не нашлось такого, который утверждал бы, будто история повторяется каждые семьдесят лет, — это было бы слишком просто. И тем не менее 1990-е годы прошлого столетия в нашей стране до странности напоминают 1920-е. Впрочем, [дежавю] вполне объяснимо: и в начале ХХ века, и в его конце смена режимов, отмена запретов, ослабление центрального контроля стимулировали расцвет культурной жизни. Расцвет, конечно, относительный, ограниченный размерами экономики — и в том, и в другом десятилетии серьезно сжавшейся. Тем не менее принято считать, что творчество определяется не деньгами, а другим, менее уловимым фактором, который называют «воздух свободы». В самом начале 1990-х этот воздух появился в стране благодаря в том числе нескольким важным актам, которые приняло на глазах менявшееся государство: «Закон о печати» покончил с цензурой, а «Положение о театре-студии на коллективном (бригадном) подряде» разрешило частные театры.
До этого времени дела с приватной инициативой в театре обстояли печально или анекдотично. В начале 1980-х мои друзья захотели открыть «Оранжевый театр». Оранжевый — веселый цвет. Но в это время в одной африканской стране, которую поддерживал СССР, случился государственный переворот. К несчастью, флаг у страны был оранжевого цвета. Испугавшись «антисоветчины», партийно-комсомольские функционеры, от которых это зависело, театр не разрешили.
Но вот наступили 1990-е, и все цвета радуги стали возможны. У государства денег на культуру не хватало, а частная инициатива, напротив, расцвела. Кроме того, в конце 1980-х открылись границы, и оттуда стали приезжать невиданные прежде люди. Привыкшие к классическому балету, пионерским линейкам и «народным ансамблям» советские зрители впервые увидели современный танец, или модерн. И снова, как тогда, когда в начале ХХ века в Россию приехала Айседора Дункан, на них повеяло ветром свободы: а что, можно и так танцевать? Не по балетным позициям, не тянуть носок, выражать не условно-театральные эмоции, а собственные, в том числе конфликтные, чувства? В стране начался бум современного танца, продлившийся все 1920-е годы. После Великого перелома, сталинской «культурной революции» все частные инициативы в театре и танце были прекращены, и модерн вернулся к нам из-за границы только на рубеже 1990-х. Наступило время физического театра, перформанса, контактной импровизации, альтернативных дефиле моды и многих других шоу с малым бюджетом и большой энергией творчества.

Кризис слова и театр перформанса
«Я знаю, что в современном искусстве считается чем-то предосудительным, если “художник” занимается самовыражением, но лично я в своих танцах занималась бешеным и беспредельным самовыражением», — вспоминает перформер Марина Русских. Она открыла для себя танцперформанс как возможность «“рассказать”, или выразить, пусть даже зритель это не считает буквально, ту бурю эмоций, экзистенциальных тревог и переживаний», которые ее «мучили, беспокоили, просились быть высказанными». В своем личном желании Русских видит признак десятилетия: «Наше поколение переживало время сильнейшего слома эпох, перемены формаций, смены государства, идеологий, вер. Мне кажется, для меня и для тех, кто был рядом, очень важна была эта идея, что слово лживо, что “мысль изреченная есть ложь”, что есть некая невербализируемая истина, мир за словом».
Советский официальный дискурс обесценил слово — язык перестал быть средством раскрытия правды и превратился в способ ее утаить, не сказать лишнего. Говорить на языке, который высмеял Джордж Оруэлл, — новоязе/newspeak — нужно было так, чтобы не выдать ничего важного. Утрата доверия к официальной речи вела к поискам нового языка — телесного, невербального. Еще в брежневские годы, в период «застоя» в политике, стала популярной пантомима: Модрис Теннисон в Риге, Гедрюс Мацкявичюс в Каунасе и Москве, Наиль Ибрагимов в Казани, а также многие другие создавали театр пантомимы, или «пластический театр». В таких постановках все было ясно без слов (помню свое изумление на одном из спектаклей Мацкявичюса: не сказано ни слова, но все понятно!). Многие тогда открыли для себя физический театр, импровизационный и танцевальный перформанс как альтернативу затертому, как монета, потерявшему кредит доверия слову. Сначала в столицах, а потом и в провинции образовался круг людей, по-разному исследовавших возможности невербального в театре. Так, Марина Русских вошла в сообщество «Другой Танец», в котором участвовали танцовщики, занимавшиеся модерном и другими альтернативными, «странными» формами танца. Площадками для их выступлений служили еще советские Дома культуры с соответствующими названиями: ДК Первой пятилетки, ДК «Красный Октябрь». Позднее в память о первом ДК стал проводиться фестиваль «Пятилетка». В «Красном Октябре» стартовали Наталья и Вадим Каспаровы — они открыли школу танца Сannon Dance, одну из первых, где учили модерну и контемпорари, и основали международный фестиваль Open Look.
Росту альтернативного театрального сообщества помогала информация о том, что происходит за границей, — она доходила с трудом и не всегда из первых рук, но доходила. В 1980-е годы начали приезжать труппы современного танца, в Москве показали «Весну священную» Пины Бауш. По сцене разбросали землю — было грязно, телесно, неслыханно. В конце того же десятилетия ленинградец Александр Кукин увидел гастроли западной труппы, танцующей модерн, и был поражен эстетикой движений, освобожденных от балетных канонов и штампов. В 1990 году Кукин основал свой собственный театр танца, существующий до сих пор. В Москве, под крылом режиссера Анатолия Васильева, приютился буто — японский танец-модерн. Актеры Васильева ездили в Японию к гуру, Мину Танаке, на его знаменитую ферму, где занимались буто и вскапывали землю. Питерцы Наталья Жестовская и Григорий Глазунов основали театр буто, назвав его OddDance — «странный танец».
И Пина Бауш, и Кукин, и буто стали знаковыми для танцперформансов первого постсоветского десятилетия. Эти перформансы во многом были импровизационными — еще и потому, что условий для создания профессиональных трупп, действующих на постоянной основе, не сложилось. Узнавать информацию и учиться приходилось урывками, но это оставляло место для творчества. Перформер Ольга Сорокина вспоминает: «Если буто и Пину Бауш смотрели на затертых кассетах, то статьи про перформанс читали и переводили. И так как к одному не было текстов, а к другому — изображений, то недостающее азартно допридумывали сами, да так, что конструировали подчас что-то совсем новое». Жили богемно, и сам импровизационный образ жизни провоцировал свободный стиль танцперформанса: «Физически занимались тренингом из пантомимы, он позволял почувствовать тело не только как единое целое, но и как пространственный объект с разными центрами движения, давал ощущение “локальности”. Передирали все, что можно, из хатха-йоги и айкидо, карате и ушу. Ходили к Кукину танцевать модерн, это просто “маст хэв”. С удовольствием переделывали классику/модную современность/узнаваемое, погружались в постмодернизм. И выпивали, да, много и с удовольствием, — в отличие от многих других современных к тому моменту искусств, где больше курили всякое и вообще употребляли все подряд».
Вот на эту почву, вспоминает Сорокина, и прилетела контактная импровизация. Дело, однако, не только в богемности: модерн, контемпорари, контактная импровизация — это техники формирования иной телесности, альтернативной тому идеалу подтянутого, сильного, по-пионерски «всегда готового» тела, который сложился в советские годы. Когда-то современный танец/модерн начался с противопоставления балету и создания иного, неклассического режима функционирования тела. В отличие от балета с его жестко фиксированными позициями и атлетически развитым, мускулистым телом, модерн культивировал свободное движение, близкое естественному. Если в балете тело — вытянутое по вертикали, с прямой негнущейся спиной, в любой момент собранное и напряженное, то модерн охотно позволяет телу расслабиться, побыть в покое, не прекращая при этом движения. Родоначальники модерна придумали новые термины: Рудольф Лабан говорил о смене «напряжения» и «расслабления», Марта Грэм — о чередовании «сжатия» (сontraction) и «расширения», или «высвобождения» (release), Дорис Хамфри — о «падении» (fall) и «выпрямлении», «восстановлении» (recovery).
Танцовщик модерна осознанно вступает в игру с природными, физическими силами — и прежде всего с гравитацией. В 1970-е годы в США, в среде радикально настроенных художников танца, появилась «контактная импровизация». В этом виде танцперформанса тело танцовщика уподобляется весу, физической массе и вступает во взаимодействие с опорой и телами партнеров, подчиняясь естественным силам инерции и гравитации. Сближение тела танцовщика с силами природы должно было отдалить его от искусственности, конвенционального характера сценического танца (в особенности балета), освободить от нормативного телесного воспитания («сидеть прямо», «не горбиться», «не размахивать руками» — дрессировки, связанной с аристократическим идеалом тела), вернуть в естественное, первозданное, счастливое состояние.
О том, что при этом тело подчиняется новым правилам, накачивается другими нормами, никто тогда не думал. Все казалось открытием: танцовщики устремились к чему-то новому, самозабвенно предавались импровизации. Нина Гастева и Михаил Иванов основали в Петербурге театр танца «Игуан». Назывался он так потому, что, по их словам, игуана — единственное животное, которое может бежать по воде, но если остановится — утонет. Правда это или нет, но кредо основателей подразумевало безостановочную импровизацию, придумывание чего-то нового: меняя перформанс, они меняли и тело.
В этом сходились перформеры обеих столиц. В 1994 году, как вспоминает Ольга Сорокина, «серия совершенно угарных событий перезнакомила и перемешала московскую, питерскую и всесоюзную театральную тусовку: это февральский трехдневный карнавал в кинотеатре “Родина”, устроенный “Лицедеями”, следом — там же фестиваль “Бабы-дуры” к 8 марта, фестиваль “Карнавал” в Манеже, “Кук-арт” в Царском Селе…». И все это — почти без денег (случайные спонсоры, по словам Сорокиной, подбрасывали немного и скрывались из виду), но творчески, импровизационно и весело.
Что касается тематического содержания (если, конечно, в перформансе можно отделить форму от содержания), то перформансы начала 1990-х во многом прошли под знаком альтернативности советским ценностям, безудержного стеба над всем официальным, иронии по отношению к соцреализму и прочим атрибутам державности. По этой самой причине уже к середине десятилетия тема «против» себя исчерпала — нужны были перформансы «для», с новыми целью и миссией.

Перформанс-ритуал
Перформеры 1990-х настаивали на том, что их работы — не напоказ, не только ради зрителя. Хореограф Александр Кукин и сейчас продолжает считать, что «модернисты… ничего зрителю не демонстрируют. Их внимание, скорее, направлено друг на друга или внутрь себя… они танцуют совсем не для аудитории». Тогда для кого или для чего танцуют «модернисты»? По своему настрою перформансы 1990-х, считает Ольга Сорокина, напоминали ритуал, молитву: они отсылали к чему-то «важному и великому, где ты сам, как артист, являешься только проводником». С обращения к древним, языческим ритуалам начался в Питере театр «Лесной дом»: его участники сделали спектакль про скифов — кажется, по заказу человека, связанного с Музеем этнографии. Название «Лесной дом» придумали по ассоциации с теорией Владимира Проппа, которого участники «читали вдоль и поперек» и откуда узнали, что «дом в лесу» — это то место, где юноши готовятся к инициации, где происходят волшебные вещи и открываются ворота в новую, взрослую жизнь.
С уходом цензуры и других советских запретов будто бы появились новые источники творческой энергии. Идея превратить перформанс в обряд, наполнить сакральным чувством и смыслом манила многих. Про родство перформанса с ритуалом антропологи театра Виктор Тёрнер и Ричард Шехнер писали уже в начале 1980-х годов. В современных исследованиях перформативной культуры используются понятия, подсказанные этнографическим изучением ритуалов рождения, инициации и смерти, в том числе liminal experience — «состояние перехода», «пороговые переживания». Перформанс считается успешным, если зрителю удается выйти за пределы обыденного видения, пережить трансформацию, духовно преобразиться, что уподобляет перформанс ритуалу. «Когда обычное воспринимается как необыкновенное, когда бинарные оппозиции разрушаются и вещи превращаются в свою противоположность, у зрителя появляется ощущение волшебства», — пишет теоретик перформанса Эрика Фишер-Лихте. При этом она как будто повторяет идею драматурга и режиссера начала ХХ века Николая Евреинова о театре как преображении.
Итак, когда стеб над советским себя исчерпал, а соц-арт сделался предметом коллекционирования и обрел коммерческую ценность, альтернативный перформанс тоже преобразился. После растождествления с прежними ценностями начался поиск новых, а, как известно, все новое — это хорошо забытое старое. Так в перформанс пришли мифологемы славянской архаики, фигуры «русского народного», глубинного «национального». Эти ценности выступили на первый план, в том числе потому, что в советское время все, что могло быть связано с национализмом, активно запрещалось.
В середине 1990-х Екатерина Рыжикова и Александр Лугин создали группу «Север», которая положила начало московскому художественному движению за «новую архаику». Название отражало идеи входившей тогда в моду геополитики: в качестве носителя истинных культурных ценностей «Север» противопоставлялся и «варварскому Югу», и «декадентскому Западу». Идея состояла в том, чтобы с помощью соединения игрового костюмированного перформанса и языческого мифа вдохнуть новую жизнь в театр, а также возродить и обновить религиозное чувство. Еще до создания «Севера» Рыжикова делала авангардные костюмы и участвовала в костюмированных перформансах, где «иронично сочетала архаику и техно, элементы этно с псевдоиндустриальным стилем».
Группа одной из первых стала устраивать перформансы в духе шаманистских и неоязыческих обрядов, с огненными шоу и авангардным музыкальным аккомпанементом. У «Севера» было несколько проектов: «Техно-заговор», «Техно-хоровод», «Северное видео», «Северное фото»; существовала секция электронного искусства «Северное сияние» и даже «Шок-школа»; практиковались «трансритуальные психоактивные игры». Себя Рыжикова называла «Волшебницей» и в ритуалах исполняла роль «Матери». В клубе «Акватория» в московском Южном порту группа провела перформанс «Мать-земля», в котором Рыжикова «рожала». Другим перформансом стала «Сказка. Марья Моревна», ее героями были Моревна, Кощей, Лаборантка Северного ветра. Съемки перформанса проходили в помещении и в Нескучном саду, на островке посреди пруда-купальни.
Перформансы тщательно фиксировались с помощью художественной фотографии (фотограф Александр Маров), поскольку их авторы стремились «включить фотознак в традицию», создать новый знак — или «икону» — «русскости». Рыжикова сравнивала это с тем, как в недалеком прошлом иконическим знаком «русскости» служили всеми любимые и широко известные иллюстрации Ивана Билибина к русским сказкам. В этих и других перформансах 1990-х «русская идея» была, прежде всего, невербальной парадигмой, раскрывавшейся через визуальное.
Попытку создать перформанс-обряд, перформанс-миф приветствовали апологеты «русского мира», но не только они. Как-то Андрей Бартенев в одном из своих публичных выступлений признался, что «Север» — его любимая группа. Если для танцперформансов жизненным пространством служили фестивали, которые организовывали сами же участники, то выступления музыкальных групп, таких как «Север», и костюмированные перформансы вроде тех, которые устраивал сам Бартенев, проходили в других местах — в клубах, сквотах и галереях.

Клубы, сквоты, галереи
1920-е и 1990-е похожи между собой еще и ситуацией тотального дефицита: и в то и в другое десятилетие «из быта исчезли вещи». В результате случился настоящий расцвет того, что вошло в моду гораздо позже, — recycling и DIY, то есть переработки и рукоделия. В начале 1990-х в свободной продаже не было даже мыла, макарон и крупы, и столица, не говоря уже о регионах, перешла на торговлю по талонам. Но страсть к театральности, костюму и переодеваниям неуничтожима. «Новый денди» и художник-перформер Александр Петлюра искал свои сокровища на барахолках, а импровизированные дефиле устраивал в сквоте на Петровском бульваре, 12. Это место стало центром андеграундной культуры Москвы 1990-х: здесь располагались мастерские, проходили концерты и спектакли театра альтернативной моды Петлюры. Ведущей моделью была бывшая актриса пани Броня, Бронислава Анатольевна Дубнер, единственная прописанная в этом доме жительница. Она исполнила главную роль в перформансе Петлюры «Снегурочки не умирают», а в 1998 году на конкурсе в Лондоне завоевала вместе с Петлюрой титул «Альтернативная Мисс Вселенная». В проекте «Империя в вещах» Петлюра сделал двенадцать коллекций, отражавших стиль разных десятилетий ХХ века, которые исследователь субкультуры Михаил Бастер назвал «самой необычной историей России».
После первых голодных постсоветских лет в стране начали появляться продукты и товары, открылись супермаркеты (первый — в 1994 году), рынок постепенно насыщался. «В девяностые на советских людей хлынул поток ярких, красивых разнообразных товаров, некачественных, но очень желаемых. Хотелось все съесть», — вспоминает Андрей Бартенев. В это время он сделал перформанс, где использовал упаковки товаров народного потребления: не только банки из-под супа и колы (как Энди Уорхол), но и «всю помойку, вплоть до трехколесных велосипедов». Свои перформансы Бартенев чаще устраивал не в сквотах, а в клубах и других полуальтернативных пространствах.
Первые «ночные клубы» появились в Москве одновременно с первыми супермаркетами и стали самыми модными местами отдыха с вечера до утра. К середине десятилетия они уже были во всех «миллионниках» и на все вкусы. Еда в клубе не главное; развлечение обеспечивают напитки, стимуляторы, концерты, модные показы и перформансы. «Первые клубы открывает богема для себя и себе подобных, — пишет Леонид Парфенов. — В модные места быстро набегают все ночные жители: богачи, бандиты, иностранцы, молодые и молодящиеся. “Белый таракан” Ирины и Алексея Паперных выглядит коммуналкой с маленькой сценой. В “Эрмитаже” Светланы Виккерс просторнее, но также концептуально бедно… “Бункер”, “Ne бей копытом”, Manhattan Express исповедуют разную музыку и разные соотношения живого исполнения и работы диджеев, но все они слывут авангардными: самые передовые ритмы и ультраперформансы Маши Цигаль и Андрея Бартенева».
В сентябре 1993 года в Россию впервые приезжает Майкл Джексон и дает свой единственный концерт в Лужниках. Сам его приезд становится грандиозным перформансом: на фото мы видим короля поп-музыки на Красной площади и в других пафосных официальных местах, одетого в офицерский китель, в окружении армейского оркестра.
Возможно, приезд американской поп-звезды навел художника и перформера Владислава Мамышева-Монро на мысль стилизовать себя под разных знаменитостей, от Мэрилин Монро до Ленина и Гитлера. В 1995 году для Якут-галереи и при ее содействии он создал выставочный проект «Жизнь замечательных Монро» (фотограф Михаил Королев). Название серии отсылает не только к книжной серии «Жизнь замечательных людей», инициированной в 1933 году Максимом Горьким, но и к циклу видеофильмов «Смерть замечательных людей», который был снят в 1990-1992 годах для «Пиратского телевидения». В этом сериале Мамышев играл одновременно Гитлера и Еву Браун, а также Мэрилин Монро. Проект «Жизнь замечательных Монро» демонстрировали не только в галерее, но и на рекламных баннерах, развешанных на московских улицах. «В это время, — свидетельствовал Мамышев, — шла работа над первой моей выставкой большой в Москве, шел девяносто пятый год, на Якиманке висели огромные баннеры: Мэрилин Монро, Адольф Гитлер, Иисус Христос, Екатерина II, Наполеон, Жанна д’Арк, Фауст. Те самые образы, которые я в себя впитывал, чтобы получить их опыт… Была еще смешная фотография на обложке газеты Independent, где шли коммунисты. Последняя коммунистка шла по Якиманке со знаменами красными на фоне моих портретов Мэрилин Монро и всех остальных. И было написано “Там, где раньше было Политбюро, теперь висят портреты Монро”».
Под занавес «лихих девяностых», на Хеллоуин 2000 года, Бартенев устроил в клубе «Студио» грандиозный перформанс подназванием «Гоголь-моголь, или Приключения невидимых червячков в России». По описанию, которое приводит в статье об Андрее Бартеневе Ольга Вайнштейн, «на сцене находились семьдесят актеров в сложных костюмах-объектах, которые они в ходе действий снимали и бросали в огромную кучу. Одновременно с этим на сцену падали четыре тонны мусора и шесть тысяч яиц… В ходе перформанса был сломан пол, подожжен мусорный бак, в зале начался беспредел и анархия, все вышло из-под контроля». «Гоголь-моголь» стал достойным прощанием художника с памятным десятилетием и встречей новой эпохи.
Причиной того, что альтернативный перформанс к концу 1990-х угас, Бартенев считает политику галерей: они в поисках грантов стали ориентироваться на западные образцы и поддерживать художников, подражающих западным. Другая причина — джентрификация галерей и клубов. Перформансы перестали пародировать официоз, теряли свою импровизационность и превращались в профессиональный арт. Время нефтяного изобилия внесло консерватизм в политику и настроения людей. Новая публика, проматывающая в клубах шальные доходы, ждала не критики, а развлечения, не демифологизации, а создания нового мифа. Клубные перформансы изобретали себе другую, альтернативную мифологию — неоархаики, технокарнавала, нового дендизма. В то же самое время на улицах и в других публичных местах активистский перформанс продолжал жить, но об этом — в другой статье.
Иллюстрации: Руди Лин
все материалы