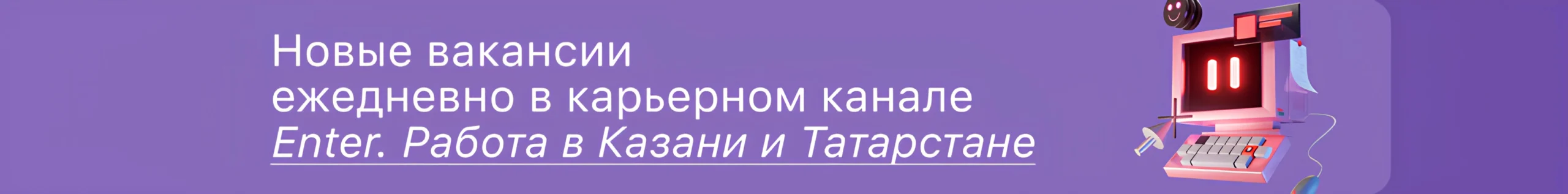«Субкультура. 200 лет бунтующей молодежи»: Сектанты, поэты и свобода
В «Белом яблоке» выходит новая книга музыкального критика и публициста Артемия Троицкого «Субкультура. 200 лет бунтующей молодежи». Это его взгляд на культуру страны в указанный период через призму развития молодежных движений: от декабристов и до Pussy Riot.
С разрешения издательства Enter публикует отрывок из главы «О дивный новый мир: Культы, мистицизм и искусство Серебряного века» — об обществе в период с 1905 по 1930 годы, сектантах, поэтах и свободе духовных порывов. На книгу можно оформить предзаказ онлайн.

Русский XIX век принадлежал романтикам-материалистам. Бурные и часто революционные выступления молодежи тем не менее никогда не отрывались от земли. И подвижники реформ, и террористы-заговорщики, и писатели с художниками — все они были, помимо всего прочего, реалистами. Век Просвещения создал для этого философскую базу, давшую ростки социализма и марксизма; постепенное, но неуклонное развитие капиталистических отношений создало экономические предпосылки и стиль жизни — разумный и практический. Даже безнадежный бунт декабристов и самоубийственные акции народовольцев были основаны на расчете (не всегда точном) и имели своей целью конкретное и приземленное «народное благо». И что в результате? К началу ХХ века окончательно измотанная материалистическая повестка дня многих разочаровала или просто наскучила. Разуверившись в возможности справедливо преобразовать мир в его видимых проявлениях, часть думающих русских передислоцировалась на духовный фронт. Традиции спиритуального диссидентства в России были, насчитывали более двух веков и имели не только клерикальные, но и простонародные формы.
Чтобы довершить картину молодежной жизни накануне грандиозных и трагичных событий, полностью перетряхнувших большую страну, коротко остановлюсь на самом экзотичном: религиозных сектах и эзотерических кружках. Секты — это старинная история; можно сказать, начавшаяся в середине XVII века, когда в русской православной церкви произошел раскол на официальную ветвь и так называемых староверов. Чуть позже в деревнях появились «хлысты» и «скопцы»; в XVIII веке — духоборы и молокане; в XIX веке — западные разновидности: баптисты, адвентисты.
К 1917 году в России было более одного миллиона сектантов и уже не только в сельской местности. Великий русский философ Николай Бердяев в небольшой работе «Духовное христианство и сектантство в России» утверждает: «Сектант — человек пораженный, раненный неправдой православного быта и церковного строя». Да, репутация попов — греховодников, пьяниц, чревоугодников, мздоимцев — на Руси испортилась давно, и многих истово верующих это противоречие между проповедью и практикой поражало и возмущало. Но людям нужен был Бог, и находились альтернативы. Бердяев делит все секты на две основные категории: те, что ищут правды и жаждут добрых дел (духоборы, толстовцы), и те, что ищут в вере радости и блаженства (хлысты). В обрядах первых преобладает проповедь и молитва; у вторых — священные ритуалы, часто эротические и имеющие языческие корни (Бердяев называл их «оргиастическими»). Государственная Православная церковь вела с сектами непрерывную войну, стремясь превратить их адептов в изгоев общества. Те отвечали неповиновением. Поэтому неудивительно, что одним из первых либеральных распоряжений Николая II в ответ на революционные события начала века стал Указ «О веротерпимости» от апреля 1905 года, восстановивший в правах староверов и других религиозных диссидентов. После этого сектантство расцвело необычайно. Впрочем, усматривать в этом какой-то специфически «молодежный» элемент я бы не рискнул. Если христианские секты, цитируя Маркса, были «опиумом народа», то «опиумом интеллигенции» рубежа веков стала, помимо марксизма, анархизма и т.д., мистика и эзотерика. Спиритические кружки и ложи «тайных знаний» стали таким же популярным досугом городской элиты начала ХХ века, как литературные салоны в начале века XIX. Разочарованная в церковной рутине русская интеллигенция и часть дворянства активно занялась так называемым «богоискательством» — причем в самых экзотических уголках. Если духовные диссиденты XIX века, как правило, предпочитали православию католичество, то новое поколение открыло для себя язычество и, в первую очередь, восточную философию, до тех пор в России практически не известную: буддизм и индуизм. На холодном севере стали обживаться гуру и махатмы.

Культовыми (во всех смыслах) фигурами мистических учений в России почитают Елену Блаватскую, медиума и теософа, автора книг «Тайная доктрина» и «Голос безмолвия», невероятно популярную в 80-90-х годах и повлиявшую на многих современников, от Толстого до Кандинского; и более позднего Георгия Гурджиева, оккультного авантюриста и танцора, автора теории «Четвертого пути». Впрочем, о том, насколько эзотерика и обскурантизм были в моде, можно судить по феноменальной значимости еще одной фигуры — Григория Распутина, «божьего человека», предположительно сектанта из «хлыстов» и фаворита царской семьи, серьезно влиявшего не только на духовную, но и на общественно-политическую ситуацию в стране. Похоже, что русское общество начала ХХ века действительно было больным обществом. Но «больное» еще не значит скучное или бездарное — парадоксальная практика России не раз доказывала, что плачевное состояние страны и кризис устоев вдохновляли не только бунтарей, но и художников.
Русская «культурная революция» конца XIX — начала ХХ века получила, причем много позже, название «Серебряный век». Революция была абсолютно бескровной, и ее движущими страстями были не забота о народном благе и ненавязчивое желание сменить власть и общественный строй. Слово «свобода» среди мотиваций, впрочем, не только присутствовало, но и играло главенствующую роль. Однако речь шла не о политической или экономической свободе, а о свободе творчества, свободе духовных порывов, свободе личности, в конце концов. Инструментами обретения искомой свободы и билетами на попадание в идеальный новый мир стали не револьверы, митинги и стачки, а перо, холст, образ. «Золотым веком» русской литературы называют первую треть века XIX: Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Карамзин, Гоголь. Звания «Серебряного века» удостоились годы с примерно 1895 по — тут, правда, не очень понятно, — но я дотянул бы этот славный период до 1930 года, и как раз получится тоже треть века. В отличие от чисто литературного «золотого», «серебряный» отмечен удивительными открытиями и даже глобального масштаба достижениями и в иных отраслях искусства: живописи, театре, хореографии, архитектуре, музыке, кино и фотографии. Деятели Серебряного века не создали — по крайней мере, до 20-х годов ХХ века — никаких настоящих организаций, оставаясь в рамках рассыпанных по столицам и немногочисленных по составу литературных и художественных кружков. Обладая армией молодых поклонников и поклонниц, они, тем не менее, не зафиксировали какого-либо сформулированного движения — типа, скажем, народников или нигилистов. И тем не менее я рискнул бы предположить, что поэты и художники Серебряного века создали свою субкультуру, носителями которой они сами, в первую очередь, и являлись. Эта субкультура, обычно, описывается в рамках таких популярных терминов, как «модернизм», «декаданс», «авангард». И хотя между поэзией, скажем, Бальмонта и Маяковского, живописью Бенуа и Малевича, музыкой Скрябина и Стравинского нет практически ничего общего, если говорить об эстетической составляющей, все они вписываются в одну культурную нишу. Ее основополагающей чертой я назвал бы то, что она радикально порывает с традициями русского искусства XIX века. С одной стороны, противостоя помпезной неоклассической «православно-самодержавно-народной» официозной культуре; с другой — революционно-демократической литературе писателей-реалистов, композиторов «Могучей кучки» и художников-передвижников. При этом нельзя сказать, что декаденты и авангардисты занимали центристскую позицию — нет, они, несомненно, были радикалами, но в совсем иной системе координат.
А теперь — по порядку. В 1892 году еще молодой литератор, 27-летний Дмитрий Мережковский выпустил сборник стихов под названием «Символы. Песни и поэмы». У того же автора и в том же году вышла сенсационная статья «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы». Несильно погрешив против истины, можно сказать, что этими событиями было ознаменовано рождение и крещение нового стиля в русской литературе — а позже и в искусстве вообще, — которое получило название «символизм». Крестный отец Мережковский много позже писал: «Под влиянием Достоевского, а также иностранной литературы, Бодлера и Эдгара По, началось мое увлечение не декадентством, а символизмом. (…) Сборник стихотворений, изданный в самом начале 90-х годов, я озаглавил „Символы“. Кажется, я раньше всех в русской литературе употребил это слово». В своей статье-манифесте Мережковский описывает символизм как соединение трех линий: «мистического» содержания, «символического» языка и «импрессионистической» манеры изложения. Нельзя сказать, что новый тренд сразу стал модным: народники и революционеры немедленно отмежевались от символизма как явления асоциального и попахивающего поповщиной. Первыми авторами, нырнувшими в пучину символизма, стали поэты Константин Бальмонт (дебютировал в 27 лет в 1894 году со сборником стихов «Под северным небом») и Валерий Брюсов, который в неполные 20 лет написал в 1893 году драму «Декаденты (Конец столетия)». Кстати, словечко «декаденты», как это не раз бывало, было пущено в оборот неприятелями символистов, критиковавшими их за мрачность и пессимизм; одним символистам (Мережковскому, например) это определение не нравилось, другие, напротив, подняли его, как знамя.
Теперь Зинаида Гиппиус — главный харизматик, скандалист и своего рода символ ранних символистов. Она начала писать стихи еще будучи тинейджером; в 19 лет вышла замуж за Дмитрия Мережковского, в 27 — выпустила первый сборник прозы «Новые люди» (1896). Название, естественно, отсылает читателя к Чернышевскому — но тогда уж лучше подошло бы «сверхновые», поскольку герои Гиппиус отличаются от персонажей «Что делать?» диаметрально. Вера Павловна и ее друзья смотрят в будущее с оптимизмом, видят исключительно материальную сторону бытия, озабочены состоянием общества и все проблемы решают сообща. Люди Гиппиус смотрят в будущее с неверием, если не сказать ужасом, вместо простых осязаемых предметов воспринимают мистические знаки и символы, политикой и общественной жизнью интересуются мало и выборочно, индивидуалисты и эгоцентрики. «Люблю я себя, как Бога», — гласит знаменитая строчка Зинаиды Гиппиус; «Любить надо народ и Отечество, а бога, вполне возможно, и вовсе нет», — ответил бы ей типичный молодой активист уходящего века.
все материалы