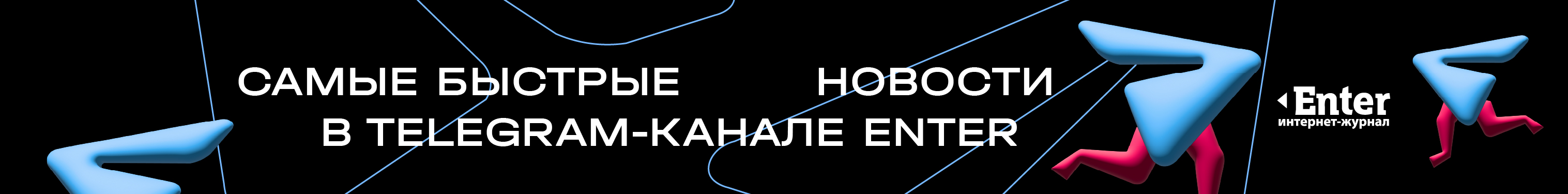Венецианский затворник: Воображаемая биография художника Тинторетто от Сартра
Жан-Поля Сартра многие знают по «Тошноте», но французский философ знаменит не только благодаря этому роману. В 1957 году впервые было опубликовано эссе «Венецианский затворник», в котором он исследует биографию выдающегося живописца Якопо Тинторетто. В этой работе проявляется движение Сартра к объективности, так как посредством синтеза автор старается выдать универсальную трактовку личности на фоне места ее развития.
«Носорог» впервые выпустил книгу на русском языке в переводе Алексея Шестакова. С разрешения издательства Enter публикует отрывок о противоречиях между венецианским истеблишментом и гением позднего Ренессанса.

Микеланджело умирает в смятении, выражая переполняющие его горечь и ненависть к себе в одном слове: грех. Тинторетто не говорит ничего; он юлит: признавшись себе в своем одиночестве, он бы его не вынес. Но именно это позволяет нам понять, что он мучится одиночеством, как никто: у этого лжебуржуа, работающего на буржуазию, нет даже алиби славы. Зато в нем кишат гадюки: маленький красильщик ловчит, подгоняемый неврозом, который Анри Жансон метко окрестил «пугающим моральным здоровьем тщеславца». Он ставит перед собой скромные цели: превзойти отца, обдуманно распоряжаясь своими дарованиями, и застолбить себе место на рынке, потакая вкусам публики. Азартный арривизм, мастерство, редкая скорость работы, талант — все при нем, а внутри — головокружительная пустота, Искусство без Бога. Искусство жуткое, зловещее, сумрачное, глупая претензия части на целое, мрачный ледяной ветер, пронизывающий изъеденное дырами сердце. Влекомый пустотой, Якопо мчится в недвижном странствии, не оставляя себе пути назад.
Гений не существует, ведь он — стыдливая дерзость небытия. А маленький красильщик очень даже существует, знает свои границы и тщится, смышленый парень, залатать прорехи. Он претендует на скромную полноту: на что ему бесконечность… Как в таком случае признаться себе в том, что одного удара его кисти достаточно, чтобы посрамить судей? Его непреклонное мелочное тщеславие вмиг растворилось бы в ночи незнания. В конце концов, не он виноват в том, что живопись носится очертя голову, словно собака без поводка. Позднее найдутся безумцы, для которых отверженность станет наслаждением, но сейчас, в середине XVI века, первая жертва монокулярной перспективы ищет, как бы со своей отверженностью справиться. Работать в одиночку, без цели значило бы уморить себя страхом. Ему нужны судьи, высокое жюри — любой ценой. Коль скоро Бог покончил с собой, остается Венеция — затыкающая дыры, заполняющая провалы, преграждающая потоки, останавливающая крово- и иные течения. Добропорядочные подданные Республики дожей всеми своими действиями заботятся о благе государства, и если они пишут картины, то не иначе как для украшения города. Якопо отдает себя на волю сограждан: у них достаточно традиционное представление об искусстве — что ж, он с готовностью его принимает. К тому же оно не отличается от его собственного; ему с детства внушали, и он твердо усвоил: достоинство ремесленника определяется числом и важностью его заказов, а также почестями, которые он заслужил. Он так и будет прятать свой гений за арривизмом, считая публичный успех единственным зримым свидетельством мистического триумфа. Его бессовестный расчет бросается в глаза: на земле он только и делает, что шельмует и ловчит, но знает, что на небе кости будут брошены честно, и выигрыш здесь, каким бы ни был он жульническим, не мешает ему претендовать на победу там: да, он успешно торгует картинами, но лишь потому, что всех одурачил. И кто его упрекнет в столь злостной непоследовательности? Развод художника и публики состоится только в XIX веке, а в XVI веке одинаково верно и то, что живопись сходит с ума, перестав быть религиозным жертвоприношением, и то, что она рационализируется, становится общественной услугой. Кто бы в Венеции осмелился сказать: «Я рисую для себя, я сам себе судья и зритель»? Да и так ли уж искренни те, кто говорит так сегодня? Все — судьи, и никто: попробуйте-ка выпутаться из этой дилеммы… Тинторетто кажется не столько злоумышленником, сколько жертвой: его искусство пронзает эпоху ослепительным метеором, но иначе, как глазами своего времени, ему этого не увидеть. Он сам выбрал свой ад: в то же мгновение, когда вокруг бесконечного замыкается круг конечного, а вокруг гения — круг тщеславия, вокруг него замыкается стена Венеции, за которую ему уже не выйти. Правда, пленное бесконечное пожирает все, и рассудочный арривизм Якопо становится одержимостью: ему нужно добиться своего, все доказать здесь и сейчас. Обвиняемый по собственной воле, он пускается в бессрочную тяжбу — сам организует свою защиту, вызывает картину за картиной себе в свидетели, судится и судится без конца: ему нужно убедить в своей правоте город с его чиновниками и буржуа, от безапелляционного решения которых зависят его будущее до смерти и его бессмертие. Эта странная ситуация, впрочем, создана им самим: ему нужно было выбрать — судить себя самому, ни с кем не считаясь, или превратить в высший суд Светлейшую республику. А если так, он сделал единственный возможный для себя выбор. Себе на горе. Как мне понятно его безразличие к остальному миру! К чему ему одобрение немцев или даже флорентийцев? Венеция — прекраснейший, богатейший город, обладающий лучшими живописцами, лучшими критиками, самыми просвещенными знатоками: именно здесь нужно разыграть свою партию, не сделав ни одного ошибочного хода; именно здесь, в кирпичном коридоре между тонкой пленкой неба и стоячей водой, под ослепительно отсутствующим солнцем, будет за одну жизнь навсегда завоевана и навсегда потеряна вечность.
все материалы