Автор: Алсу Гусманова
Шанс полежать дома и при этом помочь человечеству выпадает не каждый день. Когда любимые сериалы пересмотрены, а эксперименты с готовкой зашли в тупик, пора разнообразить досуг.
Enter спросил у десяти горожан, как провести это время нескучно и научиться чему-то новому.

Займитесь апсайклингом
Из накопленных в квартире предметов советую сделать что-то интересное: детали от старых найков можно использовать для стилизации новой вещи или предмета интерьера. А старые доски с балкона или ненужный скейт превратите в дизайнерскую табуретку по этому примеру.
А еще:
Разберите контент на телефоне. Освойте простой редактор, посмотрев туториал на YouTube, и смонтируйте ролик из коротких воспоминаний. Советую приложения LumaFusion, Glitch, Prequel, стандартный редактор в iPhone.
Разнообразьте обстановку. В аккаунтах Rowing Blazers и Aime Leon Dore есть много референсов интерьера в стиле преппи стиля 70-х. Ну и Pinterest — универсальная площадка для вдохновения.
Придумайте креативную идею для конкурса в рамках коллаборации GROUND6 x SOLODOLO. Отобразите ее в любом формате и опишите в Instagram-посте с хештегом #SOLODOLOx6 — лучшему подарим худи и подвеску.
Дайте тревоге телесный выход
В далеком прошлом организм человека реагировал на стресс реакцией «бей или беги», сейчас же мы малоподвижны и жуем свои тревожные ментальные жвачки. Пока шанс подвигаться за пределами квартиры ограничен, найдите подходящий вам способ выпустить тревогу через тело. Я, например, делаю это через танец — обязательно отвлекаюсь от работы, чтобы покривляться под любимые песни перед зеркалом. Также рекомендую видео психотерапевта Евгении Стрелецкой о том, как правильно тревожиться.
А еще:
Прокачайте кулинарные навыки. Я пользуюсь книгой «Мечта гурмана» — специально готовлю блюда с такими названиями, о которых раньше даже не слышала. Кесари и пума бхат, например.
Помогите тем, кому еще хуже. Повесьте объявление у подъезда о готовности сходить за продуктами; посидите с маленькими детьми подруги, чтобы она могла выдохнуть; поддержите тех, кто остался без работы.
Подурачьтесь в TikTok. Немного развеселой чепухи в это непростое время — самое то!
Проанализируйте свою жизнь
Подумайте, что вы делаете правильно, а что нет, и в том ли направлении двигаетесь. Это касается и работы, и личной жизни, и вашего самоощущения. Расставьте жизненные приоритеты, пока на это есть время.
А еще:
Поменяйте место самоизоляции на квартиру родителей и проведите время вместе. Я так и сделал.
Уделите время саморазвитию. Пусть это будут уроки монтажа, игры на гитаре, чтение книг или изучение языков.
Высыпайтесь! Самоизоляция — это отличная возможность наконец поспать или подольше поваляться в кроватке.
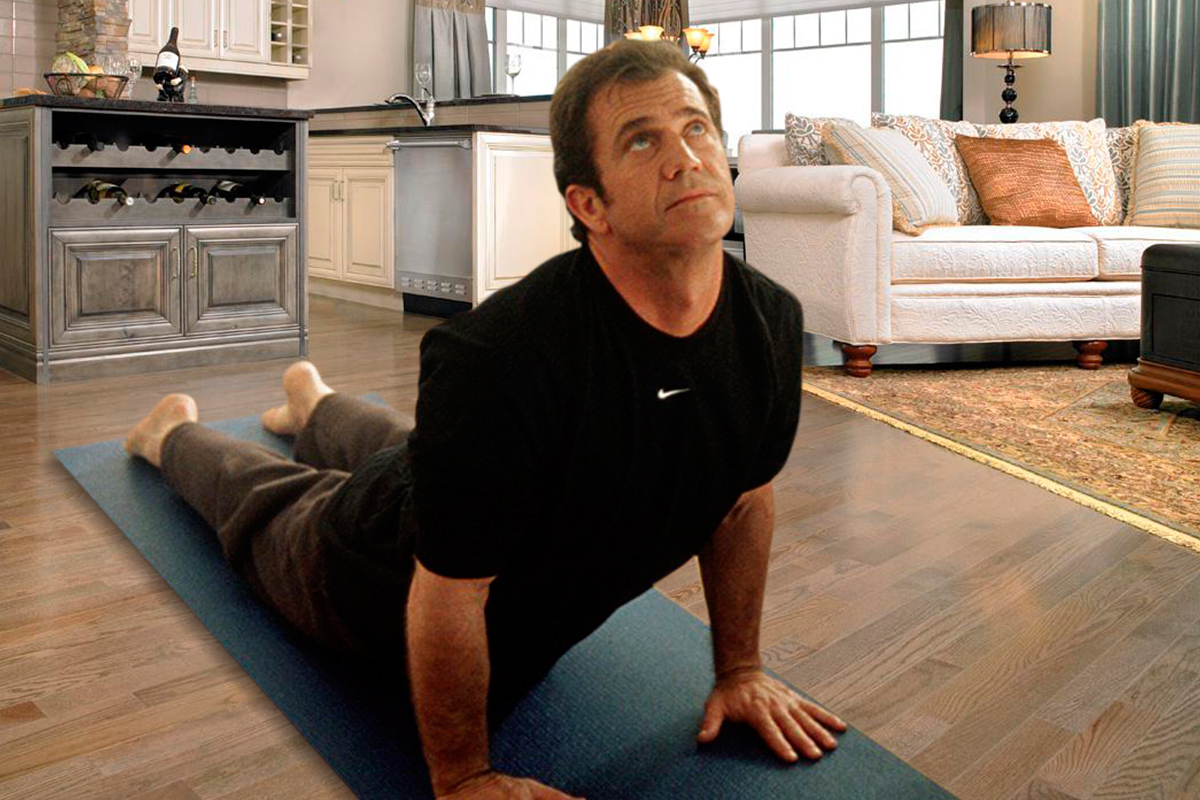
Сделайте перестановку
Иногда достаточно переставить диван или передвинуть стол ближе к окну, и комната будет выглядеть по-новому. Заодно сделайте генеральную уборку в тех местах, до которых не доходили руки.
А еще:
Оформите коллаж полароидами или снимками из фотобудок. Если вы ходили в Jam Bar, у вас такие точно найдутся.
Переберите гардероб. Засуньте зимнюю обувь в коробки, пуховики — в чехлы. Отложите вещи, которые не носите, а потом принесите на своп. Так у них появятся новые хозяева.
Смотрите трансляции «ВКонтакте». На платформе есть контент на любой вкус: спектакли, онлайн-экскурсии по музеям — в том числе и по татарстанским, — живые выступления звезд и не только. Самое интересное собрано в разделе «Смотрим дома» на видеовитрине.
Пересадите домашние растения. Землю и новые кашпо закажите в интернете.
Попробуйте записать свой первый трек
Скачайте компьютерную программу от Ableton и поэкспериментируйте. Компания повысила триал-период полной версии с 10 до 90 дней.
А еще:
Делайте зарядку, чтобы остаться в хорошей форме.
Слушайте подкасты на странице «Соли» на SoundCloud. Там много классной музыки, собранной нашим друзьями: от эмбиента до minimal wave.
Поддержите локальные компании и закажите доставку: вкусный обед, книгу или песню для своих любимых в музыкальном кафе «Ромашка».
Подумайте, как обезопасить себя при следующем кризисе
Мы с ребятами проводим тематические мозговые штурмы — самоизоляция закончится, а кризис в экономике останется. Поэтому важно разработать план действий на ближайшее и отдаленное будущее.
А еще:
Доделайте все задачи, которые у вас есть по работе. Я сижу днем перед компьютером, чтобы максимально завершить и додумать все внутренние дела компании, которые зависли по разным причинам.
Попробуйте заняться йогой. Уже скачал для этого пару приложений.
Пройдите игры, на которые раньше было жалко тратить время. Я люблю Red Dead Redemption, еще фанатею от GTA с детства.GTA 5 прошел много лет назад, а теперь могу попробовать другую игру от Rockstar.
Распишите планы на ближайшие дни
Я написала на листочках и повесила два плана — рабочий и домашний. В первом — текущие задачи, до которых не доходили руки, планерки и самое дурацкое «разбери папку “Новая папка” на рабочем столе». А вот домашний план интереснее: сходить в магазин, заказать доставку из «Ранней Пташки», заниматься йогой каждый день и, конечно же, уборка.
А еще:
Следуйте старым привычкам. Я встаю и ложусь спать как и в обычные дни, и ем в одно и то же время. После завтрака иду в душ, переодеваюсь из пижамы в повседневную одежду и сажусь работать.
Составьте мини-список на день. Но если утром проснетесь и поймете, что вас сегодня интересуют только пижама, сериалы и чипсы в кровати, поленитесь. Просто дайте себе слово, что завтра встанете и будете делать что-то другое из своего списка.

Изучите мировой кинематограф
Смотрите фильмы «порежиссерно»: только Феллини или Тарковского. А продвинутые могут изучить фильмографию отдельных операторов — так вы почувствуете общий стиль и почерк каждого из них и станете больше в этом разбираться.
А еще:
Готовьте блюда из киноа. Это отличный гарнир! Попробуйте сварить из него плов с грибами или с овощами. То же блюдо из киноа и с морепродуктами. Сублимированная узбекистанофилия!
Выкиньте из дома весь хлам как в песне «Боже, какой пустяк». Давайте признаемся, что мы все великие прокрастинаторы, а это занятие отлично отвлечет от по-настоящему важных дел минимум на три-четыре часа!
Смотрите веб-сериал «Последняя программа». Если не понравится, вернем вам деньги!
Танцуйте!
Можно просто так или вместе с любимыми, семьей, детьми. Это разряжает обстановку и задает настроение. Треки Монатика вам в помощь!
А еще:
Обучитесь финансовой грамотности. Это лучший навык в нестабильном мире.
Посмотрите все фильмы по романам Николаса Спаркса — они прекрасны.
Попробуйте потренироваться и сесть на шпагат или выучить английский. Это одинаково сложно!
Позвоните друзьям, с которыми давно не общались
У меня много друзей за пределами России, и мы все не находили время, чтобы поговорить. А сейчас наступил момент, когда нужно больше общаться и подбадривать друг друга.
А еще:
Внедрите полезные привычки. Рекомендую заниматься спортом 40 минут дома: растяжкой, йогой или тем, что больше нравится. Готовьте себе разнообразные завтраки, научитесь все вещи класть на свои места и держите рабочее место и дом в порядке.
Читайте больше книг вместо статей в интернете. Я училась по специальности «Международные отношения», поэтому интересуюсь глобальными процессами — на очереди несколько книг по теме, и пора их прочесть.
Развивайте новый навык или практикуйте те, что давно не использовали. Мне интересно изучить инструменты по финансовой грамотности, сферу IT и digital, создание сайтов.
Создайте что-то сами. Например, разработайте онлайн-марафон. Я бы хотела создать семейное древо или придумать и внедрить мастер-класс.
Изображения: Саша Спи
Фейковые новости опаснее любого коронавируса — они быстро распространяются по интернету и обнуляют все старания. Поэтому во время пандемии важно внимательнее относиться не только к своему здоровью, но и к информации.
Чтобы вы не тратили часы на поиски достоверных ответов, Enter спросил обо всем у врача-эпидемиолога, ментора Школы лекторов фонда «Эволюция» Алексея Антонова. Выяснили, помогут ли заболевшим баня и спирт, станет ли вспышка сезонной и когда это все наконец прекратится.

Что такое коронавирусы?
Это семейство РНК-содержащих вирусов. Они довольно распространены и особенно часто встречаются среди летучих мышей. Коронавирусы называются так, потому что их отростки напоминают солнечную корону во время затмения, и с короной правителей они никак не связаны. COVID-19 отличается от остальных тем, что получил широкое распространение: предыдущие вспышки охватывали небольшое количество людей, приблизительно три-восемь тысяч человек.
Как появился вирус и почему именно в Китае?
Вирус появился именно там, потому что на китайских рынках полная антисанитария. У китайцев есть традиция: животное должно быть забито перед вами. До этого момента оно содержится в клетке и находится в контакте с другими обитателями рынка. И летучие мыши, которые переносят COVID-19, контактировали с остальным млекопитающими. Из-за чего мог образоваться штамм, перешедший на человека.
От самих летучих мышей напрямую заразиться обычно нельзя, потому что у людей и этих представителей отряда рукокрылых разные рецепторы на клетках. Но если появляется некий усилитель — организм, в котором вирус получит необходимую мутацию и сможет перейти межвидовой барьер, — то новый штамм становится опасным для человека. Поэтому вспышки эпидемий могут возникать до тех пор, пока вся Юго-Восточная Азия не исправит ситуацию на своих рынках.
До COVID-19 в мире были еще две небольшие вспышки коронавирусов — одна из них тоже началась в Китае, в 2002-м. Считается, что источником ее возникновения как раз стал китайский рынок. Тогда заболели около восьми тысяч человек. По-английски вирус назывался SARS, что в переводе на русский звучит как ТОРС, то есть тяжелый острый респираторный синдром. Его усилителями стали циветы (род хищных млекопитающих, — прим. Enter). Коронавирус возник неожиданно, его даже называли атипичной пневмонией, и из китайской провинции внезапно добрался до Гонконга. После чего начал распространяться на другие страны, но вспышку заметили и успели погасить. Однако удалось это не сразу.
Второй случай связан с ближневосточным респираторным синдромом или как его еще называют, MERS-CoV. Он появился в 2012-м в Саудовской Аравии, и с тех пор заразил почти 2 519 человек, из которых погибли 866 — смертность составила более 30%. Вспышка MERS-CoV периодически возникает, просто не в таких масштабах, поэтому заразиться вирусом сложно. При ближневосточном синдроме усилителями стали верблюды, и тогда уже произошел переход вируса на человека.
Как передается коронавирус?
Существует три пути передачи COVID-19: воздушно-капельный, — то есть кашель и чихание, — воздушно-пылевой и контактный. Коронавирус может передаться через вещи и предметы обихода, если с ними контактировал зараженный. А вот случаев заражения от домашних животных, по данным Всемирной организации здравоохранения, не было.Заразиться может любой — вопрос в том, как тяжело будет протекать болезнь. У людей старше 50 лет риск получить осложнения из-за вируса намного выше из-за ослабленного иммунитета.
Какими способами медики диагностируют у пациента именно COVID-19?
Сначала смотрим, есть ли у больного определенные признаки, характерные именно для этого вируса. В 55% случаев это может быть одышка, резкий подъем температуры до 38,5°C, сухой кашель. И вроде бы симптомы очень похожи на грипп, однако тут нужен эпидемиологический анамнез, чтобы получить общую картину.
То есть необходимо выяснить, где был этот человек, контактировал ли он с зараженными, какие страны посещал. Риски заразиться COVID-19 есть у тех, кто был в стране со случаями заражения и контактировал с гражданами, приехавшими из стран со вспышкой коронавируса. Анализ обстоятельств дает понять, какова вероятность, что человек заражен именно этим вирусом.
Говорят, коронавирус неустойчив к спирту и температуре выше 27 градусов. Тогда как он выживает в теле человека и почему не погибает в жарких солнечных странах?
Сейчас устойчивость конкретного вида коронавируса изучена недостаточно. Во внешней среде он чувствует себя не очень уверенно, вместе с тем по некоторым данным коронавирус может прожить вне носителя несколько дней. Но не стоит переживать, что таким образом он сможет просуществовать на посылках с AliExpress. Через них COVID-19 не передается.
Баня и спирт могут помочь только в качестве эффекта плацебо, а вот к ультрафиолету коронавирус и правда чувствителен. Почему он выживает в жарких странах, непонятно — возможно, это связано с влажностью воздуха или с фактором плотности населения. В условиях Юго-Восточной Азии, где много людей, ультрафиолета и довольно жарко, вирус просто не успевает погибнуть, постоянно циркулируя между носителями. А попадая внутрь человеческого организма, прячется в клетках, где и размножается.
Как обезопасить себя от этого вируса?
В первую очередь медики говорят о самоизоляции. Не все правильно понимают, что она подразумевает: речь о том, чтобы не посещать места, в которые идти не обязательно, то есть посмотреть кино не в кинотеатре, а дома. Тем не менее, кто-то все равно идет туда, где вероятно массовое скопление людей. Да, нужно ходить на работу, в магазин или больницу, но необязательные социальные контакты лучше исключить.
При этом посещать общественные места и надеяться только на санитайзеры — недальновидно. Степень вашей защиты от COVID-19 с помощью антисептика и вред, наносимый им коже, зависит от состава геля. Важно помнить о личной гигиене: пришли домой — помыли руки, просморкались, прополоскали полость рта. В общественных местах вам все равно приходится открывать ручки дверей или держаться за поручни в автобусе, поэтому старайтесь не трогать лицо руками, не чесать глаза или что-то еще.
С масками такая же история — есть свои нюансы. Одноразовую, в первую очередь, надо носить заболевшим, чтобы не заражать остальных. Через два часа ее нужно выбросить. Можно изготовить маску в домашних условиях из трех-четырех слоев марли и после стирки носить ее снова.
Если я изолируюсь дома и почти не буду из него выходить, это гарантирует безопасность?
Изоляция не дает 100% гарантии. Можно, конечно, уйти в лес и не встречать никого из людей, но и тогда есть шанс получить обычное респираторное заболевание. Смысл изоляции — в попытке остановить распространение коронавируса, снизить риски заражения. Уединение важно, так же как и прекращение массовых мероприятий для предотвращения вспышки.

Можно ли заразиться коронавирусом и не заметить этого?
Молодые люди могут перенести коронавирус и думать, что заразились легкой формой ОРВИ — такие случаи были. Поэтому данная прослойка населения разносит вирус, не зная о своем заражении. В целом, у многих людей инфекции протекают в скрытой форме: у одного ребенка менингит вызывает насморк, а другого та же бактерия убьет за 18 часов. То же самое и с коронавирусом.
Куда звонить, если появились симптомы коронавируса?
Первым делом стоит обратиться на бесплатную горячую линию Роспотребнадзора по номеру +7 (800) 555-49-43 или в отделение ведомства в Татарстане по телефону +7 (843) 296-02-24. Кроме того, в республике создан оперативный штаб по коронавирусу. Дозвониться до него можно по номеру +7 (800) 200-01-12. Всю актуальную информацию публикуют на сайте местного штаба и в его инстаграм-аккаунте. Также мониторьте специальный сайт, где отражена ситуация с коронавирусом в регионах России — coronavirus-monitor.ru.
Опасно ли контактировать с людьми, переболевшими коронавирусом? Могут ли быть рецидивы у тех, кто переболел?
На этот счет мало исследований. Были случаи, когда человек повторно заражался коронавирусом, но непонятно, правильно ли ему поставили диагноз до этого. Выводы делать рано, сначала предстоит собрать больше данных.
Выздоровевшего пациента выписывают из медучреждения, потому что он перестает выделять вирус во внешнюю среду. Если бы у тех, кто переболел коронавирусом, брали мазки и отмечали выделение вируса, период их нахождения в стационаре увеличился.
Чем лечиться, если вакцину от COVID-19 до сих пор не придумали?
Создание вакцины — не быстрый процесс. Даже при вливании огромных сумм на их появление может уйти лет десять — или больше, так как еще надо протестировать. В противном случае есть шанс вывести на рынок пустышку.
В ближайшее время вакцина не появится. Если коронавирус станет сезонным заболеванием, есть вариант ставить от него прививку. Сейчас мы лечим только симптомы: вызывает коронавирус пневмонию — боремся с ней, появляется температура — стараемся снизить. Такое лечение называется симптоматическим, и как видите, люди выздоравливают, если не пускать все на самотек.
Почему кто-то умирает от коронавируса, а кто-то поправляется?
У тех, кто старше 55 лет, больше рисков из-за проблем со здоровьем: виной тому бронхит, сахарный диабет и заболевания, ведущие к снижению иммунитета. Такой человек тяжело переносит многие инфекции, а также пневмонию, которую вызывает не только коронавирус. Показатели смертности среди людей помладше намного ниже.
Есть в истории и обратные случаи. К примеру, в начале XX века от испанки погибли от 40 до 100 миллионов людей — это огромные цифры. Причем умирала, в основном, молодежь. Плюс некоторые штаммы гриппа становятся опасными именно для молодых, а еще существуют люди с мутациями, которые защищают их от ВИЧ. Почему бывают такие разные и необычные случаи? Мы пока не можем найти ответ.
С телами умерших от COVID-19 не разрешается контактировать напрямую. В некоторых обществах есть традиция целовать покойника перед проводами в последний путь — в этом случае такого делать нельзя. Кремация необязательна.
Почему этот вирус опаснее других, если от некоторых болезней умирают чаще?
Мы не можем сказать точно, что COVID-19 опаснее других. Просто это новый, плохо изученный вид коронавируса. Смертность от него не слишком высока, хотя все слишком непонятно.
Многие инфекции уносят большее количество жизней, и мы с ними знакомы, а с данным типом вируса — нет. Поэтому еще не можем предсказать, что будет дальше: вдруг он мутирует и принесет ужасные последствия. Сейчас лучше приложить все усилия, чтобы вирус распространялся как можно меньше, поэтому мы и пытаемся максимально его сдерживать.
Когда пандемия прекратится?
Прогноз спада коронавируса связан с тем, что в большинстве стран увеличится количество ультрафиолета, а температура воздуха поднимется. В теплый сезон респираторные инфекции действительно берут передышку, однако ученые прогнозируют вторую волну — неясно, где и когда она начнется. Повторные вспышки коронавирусов обычно бывают слабее, смертность от них ниже.
Чума быстро стихла из-за большой смертности населения — передавать ее стало некому. Испанка перезаражала много людей, тем не менее, у них успел выработаться иммунитет и сопротивляемость организма возросла. Эта пандемия тоже рано или поздно закончится, но нужно думать, что делать для профилактики перед следующими вспышками. Возможно, коронавирус станет сезонным заболеванием, как ОРВИ.
Что будет с человечеством и планетой, если коронавирус вскоре не пойдет на спад?
Чтобы уничтожить человечество, нужно куда больше ресурсов, чем есть у коронавируса. Смертность от COVID-19 не настолько высока, и нет смысла поддаваться паническому настрою.
Первые симптомы вируса после контакта с зараженным могут появиться только на 11-й или 14-й день. А все это время коронавирус, попавший в ваш организм, выделяется во внешнюю среду. Вот почему людей просят не паниковать и не разбегаться, самоизолироваться и ограничить контакты. Именно тогда мы сможем приостановить пандемию, и китайцы тому доказательство: чем строже карантин, тем лучше результаты. Надо переждать волну спокойно, не нервничая, а потом ученые и врачи придумают, как бороться с COVID-19.
Изображения: Саша Спи
В Казани до конца марта проходит Школа научной журналистики «Фәннәр». В ее рамках российские эксперты читают лекции о науке и не только. Среди приглашенных гостей — главный редактор издания N+1 Илья Ферапонтов.
Enter поговорил с ним о моде на научпоп и о том, почему говорить про ретроградный Меркурий — стыдно.

— В прошлом году на «Ноже» вышел промоматериал о генетическом экспресс-тесте. Позже его сняли с публикации из-за жалоб читателя. Через сколько экспертов и редакторов должен пройти текст с научной тематикой, чтобы подобной ситуации не возникло?
— Журналист — не ученый, и теоретически его задача — задать правильные вопросы правильным людям. И иногда он не обязан глубоко погружаться в тему. Но с другой стороны, чтобы задать подходящие вопросы, нужно что-то знать. Можно наработать базу знаний, но они все равно будут устроены иначе, чем у ученого. У него взгляд узкий и глубокий, а у научного журналиста — широкий и мелкий.
Нужно, чтобы журналист и редактор хорошо представляли границы своей компетентности. Если я много писал про магнитные бури и понимаю их устройство, то мне не составит труда разобраться в подобной теме без эксперта. Но если речь идет о новых закономерностях, связанных с водорослями в разных частях океана, я позвоню специалистам. А лучше попрошу написать об этом другого человека с пониманием темы.
— Журналист, как и маркетолог, тоже задается целью продать, но не продукт, а свой текст. Как соблюсти баланс в подаче околонаучного материала — завернуть полезную информацию во что-то интересное?
— Мы пытаемся найти «вау-эффект» — дурацкое, но точное выражение. У каждого человека своя картина мира — то, что ему привычно и соответствует ожиданиям. Лучше всего сработает информация, которая этому противоречит — когда вы рассказываете что-то удивительное для читателя. В принципе, это все заложено в любой научной статье, так как исследования корректируют или меняют наш взгляд на мир. Но важно понять материал перед тем, как удивиться.
Например, Илон Маск запостил математический мем — в оригинале это была картинка про то, как молодой парень советует деду выкинуть Playboy, раз есть Pornhub. У Маска же была картинка, где исходный текст заменили на историю о теории квантовой гравитации с парой строк уравнений. Мы попытались объяснить мем текстом на 12 000 знаков, чтобы в общих чертах обрисовать суть.
Большая часть читателей написала «Интересно, но ничего не понятно». Разъяснение оказалось сложным даже для нашей продвинутой аудитории. Это к слову о том, что каждую ли новость имеет смысл писать и о всяком ли исследовании нужно рассказывать широким массам? Это прочитают 10 человек, а остальные 150 закроют страницу.
— В одном интервью вы говорили, что на научпоп есть неудовлетворенный спрос, значит будет расти и предложение. А это может привести к падению качества материалов, потому что в сферу придут не самые квалифицированные люди. Предположение оказалось верным?
— Сейчас стало модным ходить на научно-популярные лекции вместо дискотеки. Это хорошее явление, но спрос растет, а предложение за ним не успевает — люди начинают хватать все подряд. Рассмотрим организаторов лекций как покупателей, а сообщество экспертов — как продавцов. Среди последних появляются те, кто читает лекции не на очень высоком уровне.
Некоторые люди вообще начинают популяризировать науку, опираясь не на свой научный бэкграунд, и тогда получается научпоп второго порядка. Они просто много чего прочли по теме и считают, что могут об этом говорить без личного профессионального опыта. В каких-то случаях такое нормально — есть точка зрения, что пусть даже в научно-популярной лекции будут неточности, гораздо важнее появляющийся интерес к теме у тех, кто пришел.
Популяризация важна из-за ее попытки выстроить диалог между научным сообществом и людьми, показать им, что наука — важная часть жизни и общества. Возможно, некомпетентность некоторых лекторов является не таким уж и высоким риском в этом контексте.
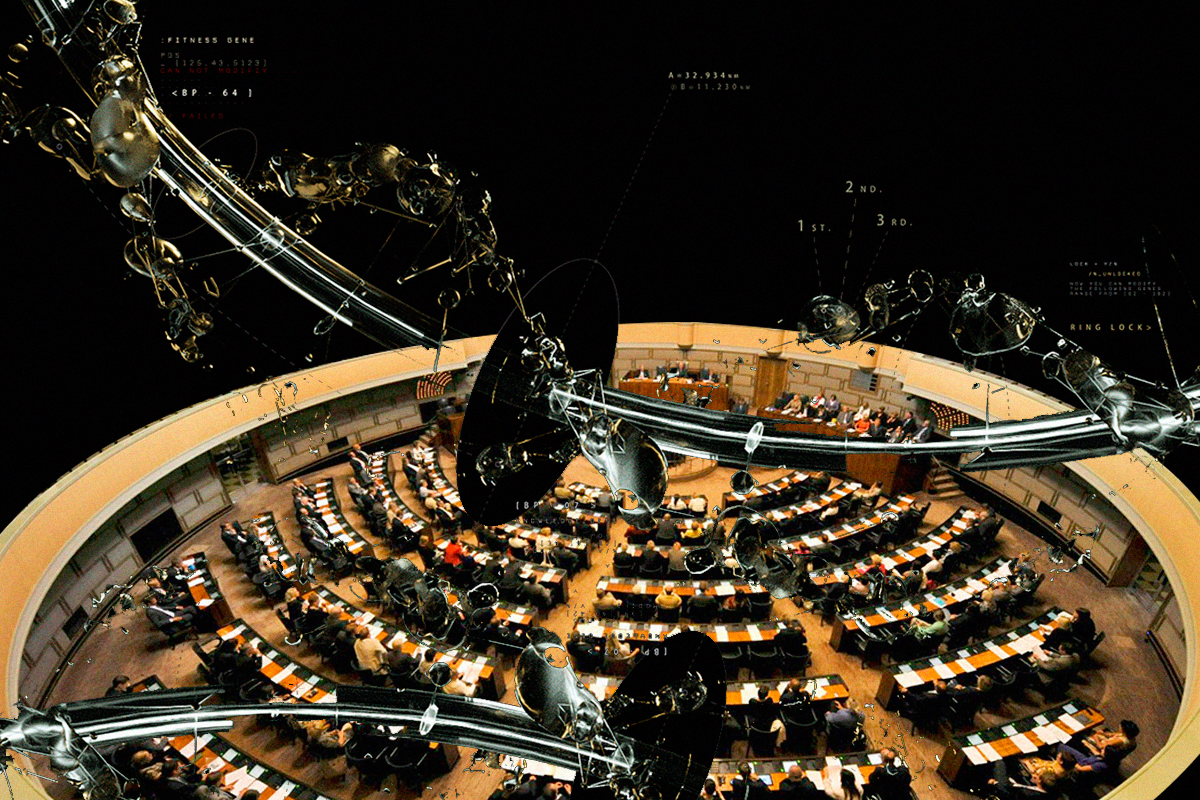
— Не снизит ли это доверие к научпопу и в целом к науке?
— Здесь важно, чтобы популяризаторы, которым указывают на неточности, нормально реагировали. Если читатель или слушатель говорит: «Эй, чувак, я эксперт в этой области и у тебя вот здесь ошибки», и человек исправляет — реакция здравая. Но если он будет игнорировать или переводить стрелки, такое поведение должно настораживать. Когда к нам в комментарии придут читатели и укажут на ошибки, а мы сделаем вид, что не замечаем — это снизит их доверие. Я не думаю, что падение общего уровня качества научпопа означает катастрофу доверия, но лишь при условии исправления ошибок и умения на них учиться.
— Чтобы ошибок было меньше не только в лекциях популяризаторов науки, но и в текстах журналистов, нужно ли им иметь научный бэкграунд? И как человеку без спецобразования писать о науке компетентно?
— В институте я изучал фольклор, а сейчас занимаюсь научной журналистикой. Можно писать научные новости, не имея тематического бэкграунда, если есть широкий кругозор и начитанность. Но риск ошибок сохраняется всегда, и в этом случае он выше. Просто существуют разные научпоп издания: с глубоким погружением в тему и скользящие по поверхности повестки. Если Cosmopolitan начнет писать про науку, для них важнее будет не глубина, а интересный формат подачи материалов. Кто-то может много читать и исходя из этих знаний, писать несложные научные вещи.
Всегда есть возможность писать не о самом процессе, а о чем-то около: о его организации, научной этике или плагиате, реформе Российской академии наук. В этом не так трудно разобраться. Существуют же хорошие журналисты без экономического образования, но с классными тематическими статьями. Некоторые из них понимают экономическую ситуацию лучше чиновников и министров. Но даже если у вас есть научный бэкграунд, никто не гарантирует, что придется писать только об опыте, связанном с ним. Вы специалист по физике твердого тела? Вот вам астрофизика — пишите!
— Тогда нужны ли вообще курсы научной журналистики?
— Я не сталкивался с людьми, которые окончили курсы научной журналистики и потом пришли к нам работать. У нас в России пока очень мало выпускников таких курсов. В N+1 мы рекрутируем сотрудников из других интернет-изданий или они дорастают до научных журналистов сами после того, как напишут много подобных новостей. Я не знаю, дают ли курсы прибавку к ценности сотрудников, потому что адаптироваться к хорошей манере писать нужно годами — двух-трех недель обучения точно не хватит.
— По вашим словам, дело просветительства почти безнадежно, потому что ученые не смогут переубедить людей с противоположными взглядами. Есть ли смысл пытаться это сделать?
— Проблема в том, что научпоп востребован у людей, которые интересуются наукой и так. Но есть еще другая огромная аудитория, и непонятно как на нее выйти. Здесь можно вспомнить примеры с революцией — ее совершает не 85% людей, а активные 15%. Они просто решают, что им все надоело, встают и выходят на улицы. Тогда пассивное большинство понимает — дело табак, и следует за ними.
Может и в случае с научпопом это тоже так работает. Если меньшинство, которое находится на свету, будет каждый день говорить по телевизору: «Ходите на научно-популярные лекции, это интересно». Вероятно, эффект будет. Дело в наслышанности, в жаргоне политологов, например, есть термин — формирование повестки. Предположим, надо переключить внимание общества на мигрантов, даже если проблемы нет. Люди как приезжали и жили нелегально, так и продолжают это делать. Но если вы начинаете вытаскивать в общественное пространство преступления, совершенные мигрантами (даже если их становится со временем все меньше), следует реакция.
Вы говорите: «Хватит это терпеть, давайте прекратим!», и начинает формироваться ксенофобская повестка. Появляются политические движения, требующие закрыть границы, и народные движения самообороны. Они ходят по дворам с дубинками и ищут зловещих мигрантов, но ситуация при этом может и не иметь никакой реальной угрозы. Если такой метод применить к научпопу, то есть вероятность, что он сработает и здесь. Но делать это нужно не навязчиво в стиле советской пропаганды, а просто рассказывать о пользе научпопа.
— Но даже тогда, скорее всего, останутся люди, которые верят в ретроградный Меркурий и его губительное влияние…
— Они могут остаться, но будут стесняться говорить о ретроградном Меркурии вслух.
— А почему сейчас не стесняются?
— Может быть, научпоп не достиг нужного градуса и многие до сих пор не знают, что говорить про ретроградный Меркурий — стыдно. Есть вероятность, что через какое-то время станет неприлично признаваться в боязни вакцин и прививок. Или в своей нелюбви к мигрантам из Средней Азии, потому что ксенофобия осуждается в приличном обществе. Я не знаю, когда это произойдет — все зависит от масштабных социально-экономических процессов.
Нужно понять, как общество движется и какое место в его сознании занимает наука. Пока, полагаю, минимальное. Если активное меньшинство или политические агитаторы поставят задачу возродить интерес к научпопу, то это может сработать.
Простой пример: государству надо было вывести несколько российских университетов в мировые рейтинги. Отчасти на рейтинг влияла и работа пресс-службы с ее умением рассказывать о достижениях вуза. Тогда в учебных заведениях создали мощную команду с миссией выйти на международный пиар. Сначала они проработали местную повестку, стали отправлять сотрудников на мероприятия, светиться везде, потом пошли дальше. В итоге получилась сильная пиар-компания.
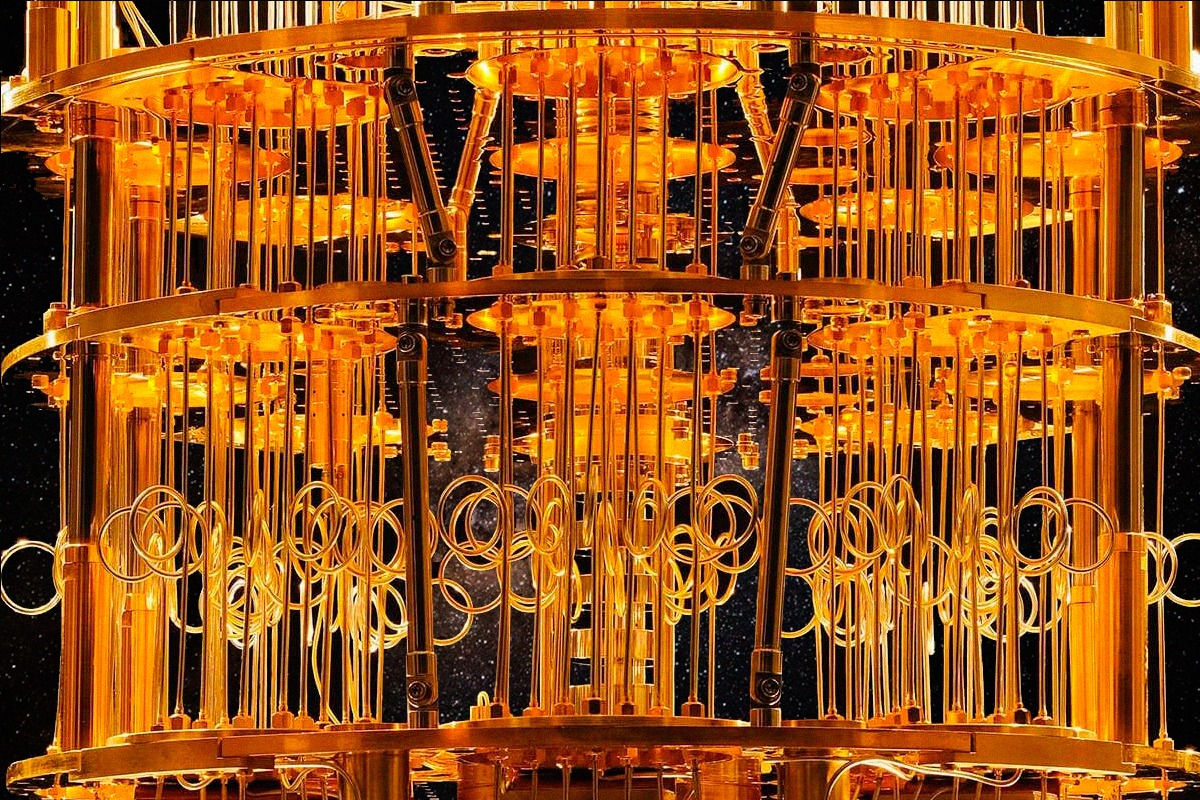
— Если люди будут больше знать об астрономии, стыдно ли станет говорить «у меня сложный характер Скорпиона, потому что во время рождения Юпитер был во втором доме»?
— Вы преувеличиваете способность людей к логике. У них в голове укладывается устройство Солнечной системы, движение планет и вера в ретроградный Меркурий. Вас же не удивляет верующий в Христа и одновременно в астрологию, хотя это прямо противоположные вещи. Так и здесь — для большинства вера в астрологию не становится центром жизни, поэтому они могут не замечать логических противоречий. В нашей стране было время, когда говорить о ретроградном Меркурии на работе коллегам было опасно — иначе вызовут на партсобрание.
Задача научпопа не в том, чтобы поменять картину мира у людей, а донести до них знания о существовании науки и ее важности. Чтобы все понимали — нельзя из прихоти росчерком пера закрыть научный институт. Например, Европа тратит огромные деньги на адронный коллайдер, при этом многие не понимают, для чего он вообще нужен. Но никто не говорит: «Эй, физики там что-то ищут, давайте его просто закроем и разберем». Потому что даже малые дети осознают — эта установка помогает получить важные научные результаты, потому проект и не закрывают.
— Вы уже говорили про взаимодействие науки и государства. Есть ли в научпопе цензура, как в государственных СМИ?
— Думаю, цензура как-то работает, но не для журналистов, а на уровне исследовательских организаций. Есть обратная история, когда государство может обязать писать про российскую науку — такое происходило не один раз. Власть в лице Министерства образования и науки просто финансирует издания вроде «Наука и технология в России». СМИ выиграло тендер и в его рамках обязано писать про достижения отечественной науки. Это не совсем цензура, скорее дополнительный оброк — хотите получать деньги, пишите про российскую науку и пишите про нее вот так. Это то, чего я опасаюсь.
Сейчас к Путину пришли и сказали: «А давайте будем создавать больше научпопа», а он ответил: «Давайте». Тогда сформируют программу или ассоциацию, создадут новое интернет-СМИ или дадут деньги существующему с условиями рассказывать о нашей науке. Это очень сильно искажает картину — можно писать про российскую науку, но нельзя при этом терять из вида мировую, иначе будет соблазн создать сенсацию на пустом месте. Некоторые пресс-службы рассказывают о своих ученых в стиле «наш сотрудник сделал такое-то открытие». Но выносят за скобки, что оно было сделано с большим научным коллективом со всего света в Париже. Типичная задача пиара, и опасно, если государство начнет вести себя так же.
— Когда о науке берется писать хорошее издание и отличный журналист, может возникнуть другая проблема: как разговаривать с ученым, чтобы не было мучительно непонятно, а материал в итоге не получился скучным?
— Аккуратно. Это как работа с минным полем, потому что ученые серьезно относятся к своей работе. А если вы дадите понять, что считаете его занятие фигней и отнесетесь небрежно, будет совсем плохо. Ошибка — прийти неподготовленным и задавать слишком примитивные вопросы. Например, спросить у ядерного физика, что такое кварки или протоны. Но и хороший ученый, как правило, способен объяснить, чем он занимается.
Если вы пришли к ученому, а он рассказывает о своей работе, сыплет терминами, которые не может расшифровать, то, вероятно, перед вами шарлатан. Известный популяризатор науки Алексей Водовозов начинал карьеру как медицинский блогер, и был момент, когда ему пришлось заниматься лженаучной диагностикой. Он пошел работать в какую-то контору, где ему сказали: «Вот волшебный способ диагностировать болезни путем приложения двух электродов к человеку». Алексей сразу понял, что это чушь, написал много разборов. Те люди использовали очень сложную научную терминологию с объяснениями, но она не имела никакого смысла.
Обычно ученый способен объяснить, чем он занимается, буквально на пальцах, но и журналист не должен быть дураком. Я был свидетелем интервью с человеком, который занимался ядерной физикой. Его спросили про практическую пользу и стоимость исследований. Затем вышел материал с заголовком «Ученый собирается сделать то и то, это будет стоить миллиарды и не принесет никакой практической пользы». Человек просто взял и сказал, что вы какие-то бесполезные, а на вас деньги тратят. Тогда зачем ты пришел, если даже не попытался вникнуть в дело?
Канал «Культура» как-то брал комментарий у антрополога Марии Медниковой из РАН. Там делали фильм про древних великанов, а его автор основывался на лженаучной фигне: якобы раньше Землю населяли гиганты и будто бы кто-то даже находил их кости. Журналисты пришли к Марии Медниковой и спросили: «А правда, раньше существовали великаны?» Она, как нормальный ученый, ответила, что нет, однако были патологии в росте у отдельных людей, но это не считается. И добавила, что в горах по таким-то причинам могли быть люди выше ростом, чем на равнине — не 165 сантиметров, а 185. Ее фразу режут и ставят после кадров с великанами, получается будто она подтверждает их существование. Предыдущие объяснения вырваны из контекста.
Так любят делать и на «РЕН ТВ». Журналисты спрашивают у астрономов: «А есть что-то удивительное в космосе?» Наивный ученый отвечает: «Ну да, в космосе вообще много удивительного». На монтаже подправляют, и выходит фильм, где ведущий вещает про летающие тарелки, а ученый говорит свою фразу про то, как в космосе много удивительного. Поэтому нужно донести до ученых, что не все так плохо и бывает даже хорошо.
Изображения: Саша Спи
В ноябре 2019-го промо-сообществу BNF исполнилось шесть лет. За эти годы оно стало одним из флагманов техно и хаус-музыки Казани, а также провело более 150 вечеринок и других мероприятий и освоило более 15-ти локаций города. Среди привозов проекта: хаус-королева Детройта Dj Minx, серый кардинал второй детройтской волны Titonton Duvante, Traxx из Чикаго, Yu Kawabata из Японии и многие другие.
Enter поговорил с основателем BNF о становлении проекта, вечеринках в тире и планах выпустить пластинку.



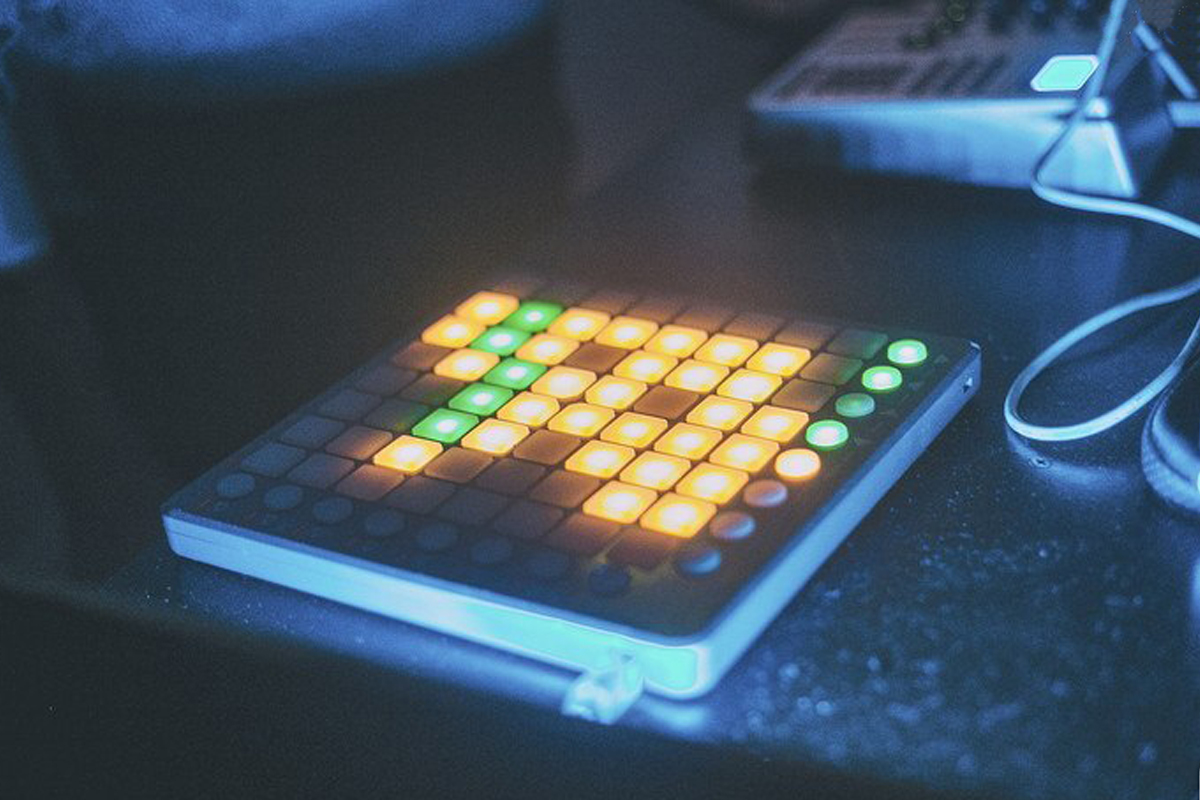
Вечеринка с участием проекта Horror Inc. Live, созданного франко-канадцем Марком Леклером, 2013 год. Это live-выступление в жанре глубокого сенсуального хауса
2013: появление промо-сообщества, открытие клуба «Бонифаций», запуск фирменных вечеринок «Питерский Экспресс» и House In Da House, а также флагманской серии Black Art.
2014: вечеринки с проектом PUSHKA 52 и перезапуск клуба «Бонифаций» под новым названием BNF.
2015: совместные проекты с командой «ДК 21» в Чернояровском Пассаже и вечеринки из серии «Шерсть», «Кожа», «Лен», «Брезент», «Мех» на «Фабрике Алафузова». Появление ярмарки винила с сетами коллекционеров Vinyl Corner.
2016: переезд на площадку тира на Горках, запуск фирменных серий «Московский бит», BNF Special Case, «8 girls x march 8», а также Secret Location.
2017: вечеринки на Нариманова, 59 — Underground Dogs, появление серии BNF Girls, запуск видео-каста WATCH BNF, старт фирменного двухтанцпольного концепта BNF LIVE & MIX c лайвами и сетами.
2018: пятилетие BNF с участием диджея из Японии Yu Kawabata. Юбилейный, десятый «Питерский Экспресс» с участием основателя омско-питерского техно-гиганта m_division и директора Gamma Festival.
2019: окончательный отказ от помещения на Кави Наджми 8, четвертое издание TEKNO-KULTURA by Re:Forms & BNF в тире. Вечеринки на площадке арт-пространства Werk.
Первые привозы и мечта о клубе
Появлению BNF предшествовала промо-команда Re:Forms. В нее входили продюсеры и диджеи, которые устраивали техно-вечеринки в Казани с 2010 года. Чуть позже к ним присоединился Вагиз Хусаинов — ему была близка и понятна идеология проекта. На двухлетие сообщества он предложил привезти в Jam Bar артиста из Ливана — тогда еще Morphosis (с 2013 года музыкант выступает под своим настоящий именем Rabih Beaini, а недавно выступил в московском Mutabor, — прим. Enter) с этно-экспериментальными пост-джазовыми мотивами. Так Вагиз влился в команду Re:Forms, вместе они провели еще несколько вечеринок в Jam Bar, пока руководство заведения не решило совсем отойти от техно.
Летом 2013-го Вагиз, Андрей Красиков (Andrey Fuji, — прим. Enter) и еще несколько партнеров, затем покинувших проект, решили открыть клуб. Подходящее помещение нашлось на Кави Наджми, 8 — небольшой трехэтажный дом в центре города. Правда, внутри он выглядел не очень.
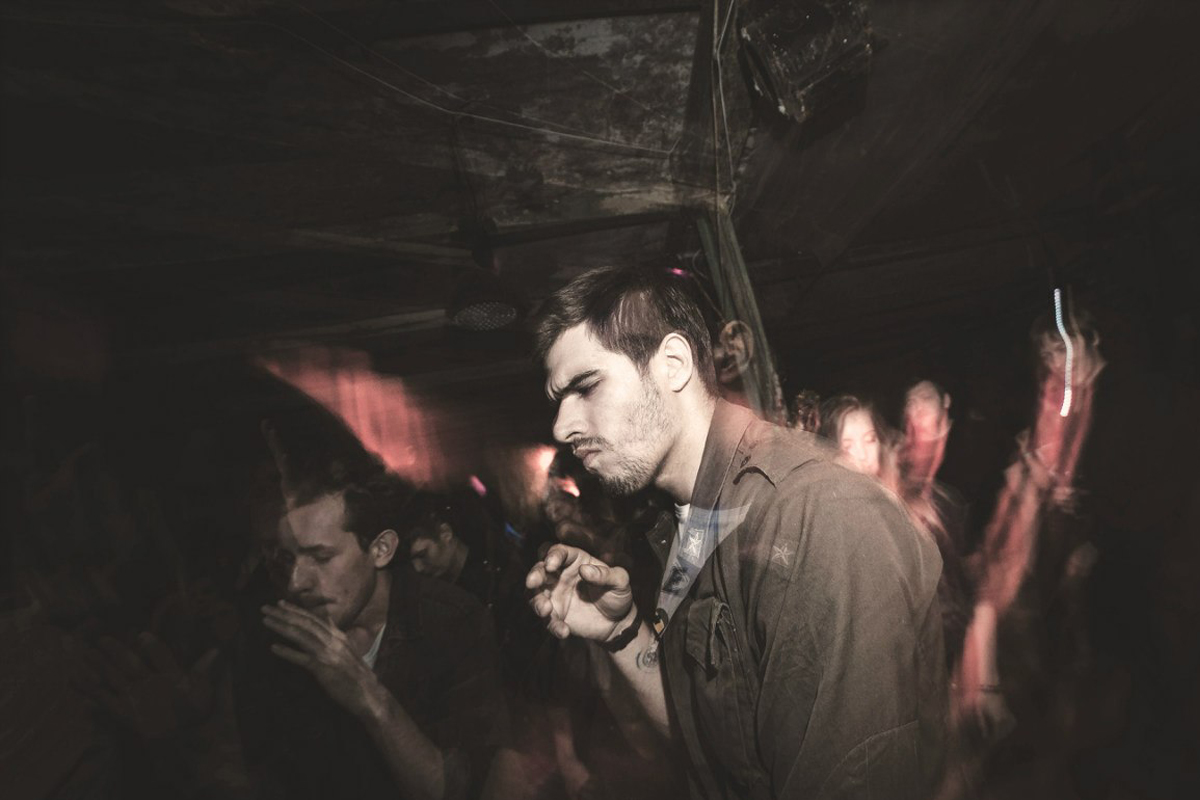



Вечеринка Basement Jam, которая сочетает в себе традиции зарубежных андерграунд тусовок с мировой классикой хаус- и техно-музыки, 2014 год
Мы пришли в этот пустующий домик, и там действительно не было никакой активности. Третий этаж просто вау: разбросанные кирпичи, грязь, отсутствие отопления и чего-либо еще. Само помещение было настолько атмосферным и подходящим для техно-хаус-клуба, что мы решили попробовать свои силы.
Долго думали над названием, отвергали разные варианты и решили взять что-то из советского мультика. Так вспомнили про Бонифация, к тому же это имя носили еще и девять Римских Пап. Затем разработали логотип с мордочкой льва и шрифт.
14 сентября 2013 года площадка открыла свои двери в техническом режиме. Ремонт был далек от завершения настолько, что вместо дверей в туалетах висел полиэтилен. Зато сама вечеринка Re:Forms — Livestream Connection удалась. Ее транслировали в режиме онлайн. За ночь в стенах клуба побывали порядка 300 человек. Несмотря на недоделанный ремонт и прочие технические недоработки, было весело и всем очень понравилось.
Пока шла стройка, команда продолжала привозить знаковых для техно- и хаус-сцены музыкантов. При этом проект не имел громкого имени и опыта в промо. В стенах «Бонифация» появилась серия вечеринок «Питерский Экспресс», где играли диджеи из культурной столицы. Там же появилось и флагманское мероприятие сообщества — Black Art. В рамках серии вечеринок в Казани отыграли артисты со всего мира: хаус-королева Детройта Dj Minx, серый кардинал второй детройтской волны Titonton Duvante, живая легенда Чикаго — Traxx, уроженец Берега Слоновой Кости Mr Raoul K, а на пятом издании Roch Dadier — некогда резидент легендарного мюнхенского клуба Ultraschall и культового берлинского Tresor в первой локации.
Но к 2014 году финансовые проблемы все больше мешали площадке развиваться. В помещении до сих пор не было отопления — учредителям клуба приходилось использовать газовые баллоны. Это требовало больших вложений, но до конца помещения трехэтажного клуба все равно не прогревались. Так «Бонифаций» временно закрылся.
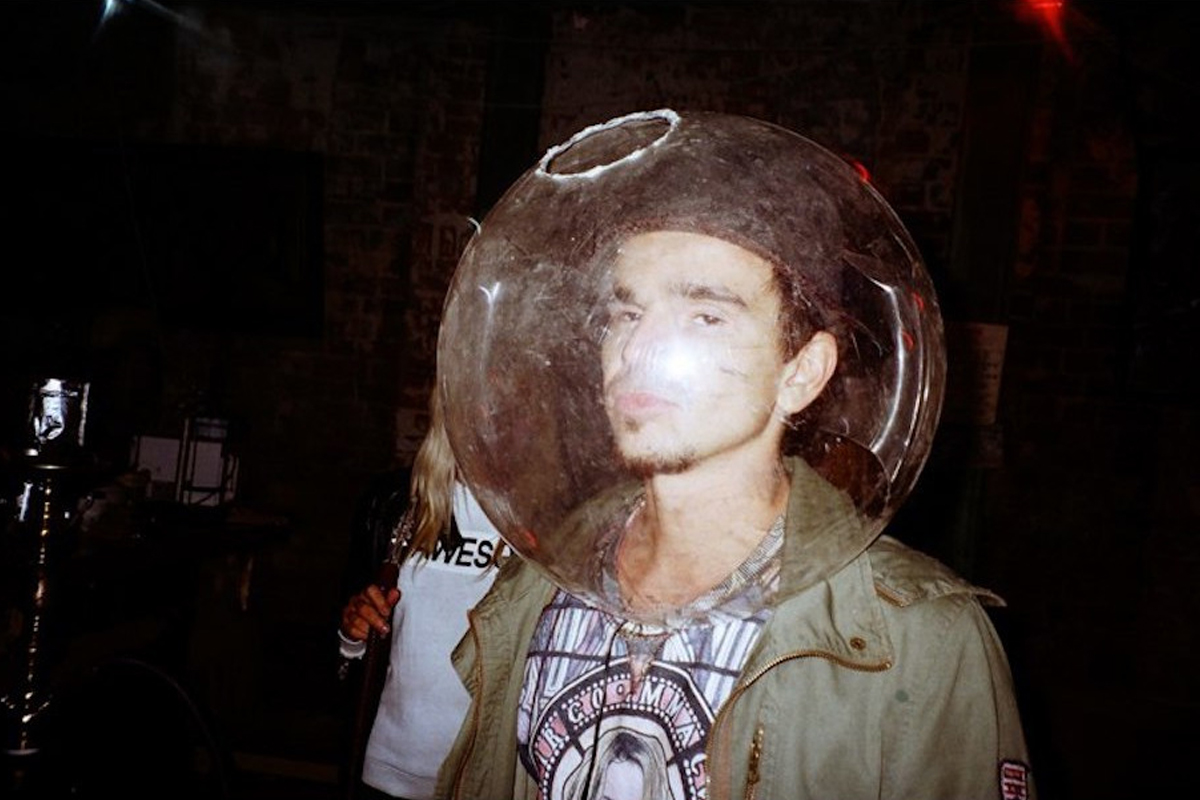



Первая для Казани трехтанцпольная вечеринка «Шерсть», 2015 год. За ночь на ней побывали 900 человек
Привозы в тире и 900 человек на вечеринке
В это же время в интернете появился паблик PUSHKA 52, который продвигал хаус-музыку. Со временем он трансформировался в промо-проект PUSHKA 52 из трех участников. После закрытия клуба они вышли на связь с Вагизом и предложили провести совместную вечеринку. Площадкой выбрали «Фабрику Алафузова» — тогда еще новое место, о котором практически никто не знал. Вечеринку назвали Basement Jam.
В лайнапе был заявлен сооснователь Re:Forms и BNF — Andrey Fuji, представитель PUSHKA 52 — Buwalda и основатель ижевского сообщества ABCD — Kstcn. За звук отвечала команда «Бонифация». Вечеринка получилась исконно рейвовой, во многом благодаря впечатляющей световой 3D mapping инсталляции от Watch Me Visuals, которые начали свой творческий и профессиональный путь в 2013-м как раз в стенах «Бонифация». Позже под флагом проекта PUSHKA 52 ребята решили реанимировать площадку на Кави Наджми, 8. На ее танцполе провели несколько музыкальных событий: «Бунт», «Рейв» и вечеринку в честь перезапуска клуба, который теперь назывался просто BNF, ровно как и промо-сообщество. Собственники здания обещали провести газ, но так и не сдержали слово. В итоге зимой 2015-го здесь снова стало тихо.
Лето 2015-го прошло для коммьюнити под знаком громких мероприятий: первая для Казани трехтанцпольная вечеринка «Шерсть» собрала на «Фабрике Алафузова» 900 человек. Далее последовали «Кожа», «Лен», «Брезент», «Мех», на которые тоже пришли сотни горожан. На одной из вечеринок в большом железном чане разожгли костер, чтобы создать атмосферу настоящего гетто.
Эмоции от вечеринок только положительные. Особенно когда все проходит успешно — шумно и весело. Но это зависит от людей, которые приходят на событие — мы ценим тех, благодаря кому возникает особая атмосфера. Как правило, они идут к нам за хорошей музыкой и создают ауру открытости, искренности и позитивного инакомыслия. На негативные моменты мы почти не обращаем внимания или просто быстро их забываем.




Вечеринка «Синдикат», 2016 год. За диджейским пультом она объединяет разные промо-группы города
Финансовые проблемы, переезд в тир и соседство с блинной
В 2015-м в доме на Кремлевской, 21 закрылся «Музей советских игровых автоматов». Пространство площадью 500 м² с подвалами и амфитеатром пришлось по душе основателям PUSHKA 52 и BNF. Они влились в команду нового проекта «ДК 21», в которую вошел и один из создателей Get Busy Марк Грибоедов. Здесь команда BNF дважды организовала «Питерский экспресс» и запустила Vinyl Corner. Там же появилась вечеринка «Синдикат», объединившая за диджейским пультом разные промо-группы города. А также совместная двухтацнпольная вечеринка BNF и ежегодного международного фестиваля брейкданса и стрит-арта COMBOnation.
Но «ДК 21» тоже не справился с затратами на аренду и в 2016-м прекратил существование. Вечеринки сообщества снова переехали на «Фабрику Алафузова». Там планировалось провести третий, трехтанцпольный «Синдикат» в честь трехлетия BNF, но и его пришлось перенести — у самого лофта начались проблемы с финансами.
Тогда один из участников BNF Антон Гордеев предложил обосноваться в подвальном помещении в тире на Горках — 800 м², большой бар, вентиляционная система, раздельные туалеты, минус второй этаж под комплексом «Олимп». Пространство максимально подошло под андеграунд-концепцию BNF. Здесь и отметили трехлетие промо-сообщества. Его участники задержались в этом месте почти на год и провели около 18 вечеринок. Часть из них появилась именно там — например, «8 girls x march 8», на которой за пультом стояли только девушки, или Special Case. Концепция последней в том, что открывают и закрывают вечеринку резиденты BNF, а остальные сеты играют гости из других городов. Это были диджеи из Берлина, Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Самары, Нижнего Новгорода, Северодвинска и Ульяновска.
В 2017-м команда нашла помещение в Старо-Татарской слободе на Нариманова, 59. Маленький дом дореволюционной постройки превратился в место для экспериментов. Команда BNF представила площадку через сдвоенный концепт: Secret Location и BNF Girls. В первом случае о площадке организаторы сообщают за два часа до вечеринки, во втором — лайнап состоит только из девушек. Параллельно команда проводила вечеринки и в других локациях и несколько раз возвращалась в родные стены на Кави Наджми. На первом и втором этажах появился новый арендатор — блинная «Избушка». Третий этаж — танцпол «Бонифация» был по-прежнему в первозданном виде и пригодным для танцев до утра. К тому моменту промо-сообщество окончательно обросло своей тусовкой и резидентами.




Sunday Vibes, 2017 год. Это серия вечеринок, посвященная некоммерческой хаус-музыке
Пятилетие BNF, планы на релиз и влияние сообщества на город
В 2018-м BNF исполнилось пять лет. На юбилей пригласили диджея из Японии Yu Kawabata, но на страну восходящего солнца обрушился тайфун. Визит отложили, а лайнап составили из авангардного состава резидентов. Поздравить команду в эту ночь пришли порядка 500 человек. Повторить праздник решили через полгода и на этот раз с участием Yu Kawabata. Вечеринка «5/5» к тому же стала красивой точкой в отношениях между зданием на Кави Наджми, 8 и BNF. Там до сих пор стоит большой диджейский стол, который спроектировал и построил Андрей Fuji — его можно вынести, только распилив на части.
В прошлом году BNF продолжило привозить артистов из-за рубежа: в Казани выступил диджей из Парижа Antoine Seamus, глава лейбла Imported Paris. Но в целом вечеринок стало меньше. Серия мероприятий с прослушиванием винила осталась неизменной, сменилась только локация — сейчас пластинки ставят в чайной Guru. До конца года сообщество планирует провести еще несколько событий: третий «Синдикат», вечеринку на шестилетие BNF с участием Mr Raoul K, который приезжал еще на заре существования проекта в рамках Black Art. На следующую пятилетку четкого плана нет, но есть задачи: запустить виниловый лейбл и уйти в более камерный формат. Сейчас в проект входят более 20 резидентов.
Вагиз считает, что сообщество BNF подарило Казани имидж столицы, в которой есть качественный электронный андерграунд. О нем знают и в других крупных городах страны. Его миссия заключается не только в личной узнаваемости, но еще и в коллаборациях с другими промо-группами, командами, независимыми диджеями и продюсерами. Так появляются новые проекты, а музыкальный ландшафт города становится разнообразнее. BNF часто оказывает организационную и пиар-поддержку ветеранам казанского андерграунда: SomeOne, pH, Lenar и Pogodin из Lazy People Organization, а коммьюнити диджеев и просто любителей винила называет «старшими братьями, близкими по духу».
Для команды брейк-данс танцоров и организаторов ежегодного международного фестиваля COMBOnation сообщество несколько раз проводило афтепати и помогало с промо-партнерами. А видео-каст WATCH BNF выходил с участием представителей проектов KZNDNB, ЭХО, МИР, Playhard. В этом Вагиз и видит одну из целей сообщества — объединять и объединяться, чтобы в Казани было как можно больше классных команд и музыкантов, делающих местную культуру неординарной и прогрессивной.




Вечеринка «8 girls x march 8», 2018 год. За диджейским пультом — только девушки
Мы никак себя не позиционируем, просто существуем в свое удовольствие. Проводим мероприятия и играем музыку, которую сами хотим — так было всегда. Своим появлением мы заполнили некое пустующее музыкальное пространство Казани, и благодаря серии вечеринок «Синдикат» выполнили интеграционную миссию для местных музыкантов. С точки зрения того, чем мы занимаемся, BNF никак не получится загнать в рамки определенного жанра. Мы просто продолжаем наслаждаться статусом и положением «бродячих музыкантов» и любим разные форматы нашей активности — от камерных вечеров и ярмарок пластинок до двух- и трехтанцпольных масштабных рейвов.
В целом BNF можно назвать лейблом или брендом андеграунд-вечеринок. Сейчас хотим попробовать новые концептуальные вещи вроде чего-то экспериментально-академического в области музыки. Но это пока только в мыслях.
Фото: vk.com
В России в год интим-услуги оказывают полтора миллиона женщин. В нулевые, по данным МВД, их было не больше 350 тысяч. Сейчас стать работницей этой сферы проще простого — достаточно скинуть данные о себе в тематические паблики в соцсетях. Но такая деятельность не только про высокий доход, но еще и про угрозы для жизни.
Enter встретился с Кэт, которая несколько лет работает в эскорте, и поговорил о казанских чиновниках, издержках профессии и конкуренции.

Кэт 25 лет. На предложение об интервью она соглашается сразу — вместо телефонного разговора выбирает личный в одном из городских кафе. Выглядит ухоженно: идеальный маникюр, длинные гладкие черные волосы, наращенные ресницы. На встречу приходит с опозданием в полчаса, но вежливо извиняется и заказывает салат, шоколадный фондан и чайник с молочным улуном — для нас двоих.
На все вопросы отвечает спокойно, открыто, без смущения и много смеется. Во время разговора ей два раза звонит клиент и зовет в загородный коттедж. Кэт обещает перезвонить, затем поворачивается ко мне и качает головой: «Туда точно не поеду, у меня вообще сегодня встреча в “Корстоне”». Пару минут переписывается с бабушкой — они очень близки. С Кэт легко говорить — никакой манерности или неловкости: ведет себя просто и, кажется, старается быть честной и откровенной.
«Кому ты теперь нужна с таким шрамом?»
Шел 2015-й, я тогда жила не в Татарстане, а в другой республике. В 21 год сделала пластику — талию поуже, и начала встречаться с парнем. Перед Новым годом мы попали в аварию на машине, у меня образовалась спайка от удара, через две недели открылось внутреннее кровотечение и я впала в кому. Мне сделали операцию, после которой на животе появился огромный шрам. На седьмые сутки вышла из комы и на радостях позвонила парню — а у меня на телефоне не было ни одного пропущенного от него. Он мне говорит: «Кому ты теперь нужна с таким шрамом?» Я в тот момент думаю: «Ах ты сука!»
Когда пришла в форму, залезла на соответствующий сайт с кучей предложений приехать в отель на пару часов. Самое оптимальное было — 20 тысяч рублей за три-четыре часа работы. Отправила фотографию, а потом поехала на место. Это был мой первый раз в таком деле. Приезжаю в отель, а там друг моего дяди, но я не растерялась: «О привет!» Он поздоровался в ответ, в итоге мы два часа просто сидели, бухали, ржали, я ему рассказала, что меня натолкнуло на этот шаг. Естественно, деньги он мне дал, подумал, будто я в них нуждаюсь. Мы договорились, что я делаю скрин переписки, убираю его имя и отправляю бывшему парню со словами «Ну вот таким, видимо, я теперь нужна».
Потом я сделала анкету и начала работать на себя. Параллельно работала в другой сфере и еще в качестве хобби снималась в кино. Затем прекратила всем этим заниматься и переехала в Казань, где живу третий год. Здесь устроилась в наркологию на должность клинического психолога. Больше не хочу. Я два года работала в отделении, где ребята лежат очень долго — естественно, у них не было девушек. И я тут такая королева, блин.
Пациенты постоянно записывались на индивидуальные беседы, я разговаривала и видела, что они вообще не понимают, о чем речь. На меня были жалобы с просьбами носить халат подлиннее, а он и так был чуть ли не до пят! Еще общаешься с родственниками пациентов по телефону, им все нравится, а когда приезжают и видят меня, говорят: «Почему такая молодая, чему она может научить моего сына?» А ему лет 35. И мне стало тяжело. Во время этой работы я занималась эскортом по выходным, а с августа прошлого года ушла из наркологии и теперь ни на кого не работаю. Просто поняла, офис — не мое, когда можно просто приехать, хорошо провести вечер, ночь и получить деньги. Еще и в тусовке постоянно находишься, а мне с каждым человеком легко общаться, я не теряюсь, могу найти подход.
«Среди клиентов очень много чиновников и они все такие жмоты»
Я разместила информацию о себе в интернете, один увидел — передал другому и так далее. В какой из тематических чатов не зайдешь — по-любому там есть мои имя и фотография. Постоянно пишут в инстаграм и телеграм, некоторых я даже не знаю.
Еще минус эскорта в том, что у кого-то в голове может перемкнуть — человек влюбится и начнет караулить. Такое уже было — маньяков много. Когда я работала в наркологии, о другой моей деятельности знал определенный круг лиц. И вот один чудо-человек стоял под балконом в минус 20 градусов с цветами. Три розы! Которые уже набок завалились! И еще орал «Выходи за меня! Если мы распишемся, с меня миллион!» Но зато эта работа приносит хорошие знакомства, а они в жизни все равно пригодятся. А сама я никому не названиваю и не написываю, понимаю — у них жены, дети. Не люблю быть навязчивой.
Сейчас среди клиентов очень много чиновников и они все такие жмоты. Им хочется, чтобы девушка была красивая, ухоженная, сидела и бухала как конь, поддерживала компанию и обхаживала. И еще хотят, чтобы это стоило за ночь, то есть за шесть-семь часов, 15 тысяч. Что? 15 тысяч? К тому же с ними очень опасно — им вообще все равно. Есть у нас один, не буду называть фамилию, — он, наверное, всю Казань перетрахал, и девки продолжают к нему ехать. А он все меньше и меньше сумму называет, они сами ее сбивают. Ребята, которым не жалко денег, не из этих кругов, простите, не писи важные. Самые нормальные и адекватные — директора каких-нибудь фирм. Они могут сказать: «Я тебя на ночь взял, но если хочешь спать — ложись или едь домой и там поспи». Иногда уезжаешь от них и приходит перевод — «Это тебе на цветы». Есть хорошие и есть прям фу.

«Накидываю куртку, поворачиваю голову, а он с ружьем стоит»
Некоторые девочки принимают клиентов на час, но я предпочитаю сопровождение с продолжением. Поэтому случается куча всяких историй. В прошлом году я работала в эскорт-агентстве, и в Казань приехали друзья важного человека — известные люди. Надо экстренно ехать на два-три часа с продолжением. Я не любитель бухать, но там нужно было пить. Спустя три часа спускаемся в номер, человек, которого я сопровождала, говорит переодеваться в халат, якобы я с ним прилетела из другого города.
В номер приходят его друзья, с одним из них я уже была знакома. Чуть позже они уходят, а мужчина к этому времени уже напился до горячки. Берет столовый нож и угрожает меня зарезать, а потом скинуть с 24 этажа. Я отвечаю: «Ну режь». Он идет в мою сторону, я забегаю в один из двух туалетов номера «люкс» и закрываю дверь. Он ковыряется в замке, через время психует и идет в другой туалет. Слышу, он писает, скидываю халат, беру вещи и полностью голая выбегаю из номера. Подъезжает лифт, я бросаю все на пол и нажимаю на кнопку, но вместо первого этажа еду на 25-й, где находится ресторан Extra Lounge. Из него выходят ребята, видят меня голую, их это не смущает и мы доезжаем до первого этажа, еще и с остановками. Со мной человек пять, наверное, ехали. Меня, конечно, трясло.
Еще была история в коттедже на Высокой горе. Приехала туда к бывшему военному с контузией. У него огромная площадь — три огороженных дома. Все шло хорошо в течение четырех часов: мы пили, болтали, трали-вали. Я начинаю собираться, а он говорит, что еще минут 12-13 осталось. Я в ответ: «И че?», мы в шутку ругаемся, я одеваюсь с мыслями, что он не всерьез. Накидываю куртку, поворачиваю голову, а он с ружьем стоит. Думаю, все, трындец. А все двери и окна на пультах, я не могу выйти. Звоню водителю — отвечает, что у него там тоже кипиш, у меня в голове — еще и до водителя докопались, нас сейчас убьют. Я прошу выпустить меня покурить, чуть ли не плача. Мы выходим на улицу. Я была на каблуках и припустила как конь, а там грязища, все в воде, потому что поливалка сломалась, еще и забор железный с острыми пиками. Закидываю на него сумку — ручка рвется, затем куртка, но я перелезаю. Стучу водителю в окно, а у него глаза огромные, спрашиваю: «К тебе тоже пристали?», а он — «Ты даже не представляешь что сейчас было!» Отвечаю, что это он не представляет, что было со мной, я слышу топот позади и мы стартуем. Едем и водитель рассказывает: «Прикинь, возле дома этого мужика машина стояла — наверное, кого-то из членов семьи. К ней подходит парень с отверткой, откручивает номера, потом подходит ко мне, смотрит в окошко и знаешь что достает из кармана? Ложку для обуви! И просто стоит». За мной, значит, чувак контуженный с ружьем бежал, а этот ложки для обуви испугался. Я с тех пор стараюсь каблуки не носить.
Но вообще, очень страшно ездить к некоторым клиентам — недавно в Москве девочку убили и в чемодане таскали. Она оскорбляла своего клиента, говорила, что он нищий, сравнивала с другими. Взяла на заметку, что так делать не стоит — сейчас очень много психов. Например, перед Новым годом мы пошли, кажется, в самое стремное место Казани — бар «Гадкий койот», где весь вечер на меня смотрел какой-то полудурок. Ну смотрит и смотрит, я привыкла. Иду в туалет, а он за мной. Спрашиваю что ему надо, он говорит, что сейчас меня вы***т [трахнет]. Я отвечаю — «*би» [трахай]. На мне был комбинезон, а он подумал, что платье и начал тянуть. Интересуюсь, нормальный ли он, мне больно вообще-то. Он в ответ «По**й [плевать], у меня СПИД». Хватаю его за голову, бью об раковину, он падает, встает, вижу, что глаза кровью наливаются. Бегу из туалета, а охраны как всегда нигде не видно, подскальзываюсь перед лестницей и кубарем лечу вниз. Меня забирает скорая, верхнюю губу зашивают. Этого придурка потом нашли, оказалось, что он уже писал мне с фейковой страницы во «ВКонтакте».
Бывают и завистницы. Например, в феврале этого года я познакомилась с девочками не из эскорта, у них почасовые клиенты. Приехала к ним на квартиру, а там страшно даже обувь снять, но я из уважения решила посидеть минут 20 и уехать. Начинается движуха, все идут в туалет, чувствую запах и понимаю, что курят соль. Они выходят обратно и высаживаются на паранойю: один у дверного глазка стоит, другой из окна выглядывает. Я хочу свалить, но ко мне подходит девочка, с которой мы до этого в интернете нормально общались и начинает: «Вот ты много зарабатываешь, все деньги на себя тратишь, а я с мамой пополам делю». Ну я и спрашиваю, зачем она мои деньги считает. Она хватает меня за волосы, но я говорю, что драться не собираюсь.
Иду по коридору, вызываю такси и вообще не ожидаю никакого удара. Тут резко открывается дверь туалета, она бьет меня ногой в низ живота, я сгибаюсь, сверху по голове прилетает бутылкой пива. Меня вырубило сразу. Помню, как открываю глаза, возле меня сидит девочка и орет, подхожу к зеркалу, а у меня видны только зубы и глаза — все остальное в крови. Через десять минут приезжают скорая и полиция. Я охренела, что так бывает от зависти. Хорошо, что бутылка не лопнула — иначе у меня все лицо было бы изрезано, а так — 32 косметических шрама. Приходится замазывать тоналкой.
«Некоторые девочки делают минет за 1 000 рублей даже без резинок»
В Казани куча эскорт-агентств. Приезжает девочка на заработки из другого города, а объявления с обещаниями золотых гор везде: во «ВКонтакте», в инстаграме. Тебе 25, например, листаешь предложения и видишь «Тебе 25? Хочешь большой заработок? Кликай!» — и все. Девочка потом подружку зовет, а та — еще одну. В прошлом году в сентябре я работала в эскорт-агентстве, мне тогда казалось, я хорошо зарабатываю. И то нужно было половину денег им отдавать: заплатил клиент 30 тысяч, 15 идет агентству. Естественно, я обманывала. Но сейчас понимаю, что могу точно так же разместить анкету и лучше потрачу время на переговоры с клиентами, чем буду делиться. Я никогда не разговариваю по телефону с теми, с кем до этого не виделась, с новыми клиентами переписываюсь, иногда делаю скрин. После заказа я его удаляю, но это ради безопасности. Иногда кто-то нажирается за ночь и предъявляет будто я много денег стрясла, а мы о другом договаривались. Я показываю переписку как подтверждение.
Некоторые девочки делают минет за 1 000 рублей даже без резинок — это опасно. Есть такие, кто берет за час 1500-2000, а есть и за 5 000. Они просто сами себе цену не знают. Если уж ты пошла в такую профессию и даже берешь 2 000 рублей за час, то можешь в день заработать 20 000. На эту сумму можно сделать маникюр, педикюр, ресницы, одеться хоть как-то. А они ходят с грязной головой, дешевой косметикой, скомкавшейся помадой — и все равно мужики к ним идут. Бывает, у кого-то любовь начинается — мужикам же халява нужна, зачем платить за секс, когда можно в ресторане отдать за нее два рубля, затем приехать и чпокнуть? Я так однажды с клиентом 4,5 месяца встречалась — это была просто больная любовь. Мы познакомились в феврале и до сих пор общаемся — не понимаю зачем. Он на наркотиках сидит. Вокруг меня вообще постоянно наркотики: кто-то нюхает, бухает, кокаин, мефедрон — так было, есть и будет.

«Никто ничего не сделает, здесь все работает по принципу “помоги себе сам”»
Раньше в эскорте был отбор по внешности, но сейчас смотрю на фотки, которые в чаты закидывают — тетки с огромными сиськами, вываливающимися из лифчика, и здоровыми ляжками. Эскорт — это вообще-то сопровождение мужчины, неужели он куда-то пойдет с такой кобылой? Тетя-лошадь еще хочет продолжения, чтоб ей не меньше 50 тысяч заплатили. Ну это просто лесть самой себе. Объявления размещают все, кто захочет, они еще по всем городам мотаются — неделю в одном городе, неделю в другом. Насколько надо быть бесстрашными, чтоб так по России летать Некоторым дорогу оплачивают, некоторых кидают. Я, например, не поеду ради этого в Йошкар-Олу, не настолько нужны деньги. Иногда езжу в Нижний Новгород к одному мужчине или в Москву.
Но я о диете не забочусь, у меня и так все вроде бы нормально. Раньше ходила в зал каждый день, но поняла, что перебор — теперь бываю там через день-два. Сейчас протеин жру и BCAA, чтоб мышцы не болели.
В WhatsApp есть группы, куда клиенты скидывают запрос — сегодня нужны такие девочки, вот бюджет. И девочки отсылают фотографии как умалишенные, но им, наверное, просто очень нужны деньги. Я ничего не отправляю, мне пофиг на конкуренцию, клиентов не ищу. Кто-то рано встает и до следующего утра работает, я — нет. Знакомая девочка пишет, что только выйдет в магазин, а ей клиенты начинают звонить. И че, бежать надо теперь? Я работаю по настроению, стараюсь не напиваться и не употребляю наркотики, потому что это чревато последствиями. Много раз в новой компании мне что-нибудь подмешивали, но, слава богу, помогает опыт работы в наркологии. Лучше выпить крепкой алкашки и все пройдет, либо просто ноги в руки и бежать.
Так или иначе безопасностью в этом деле и не пахнет. Допустим, сидели с клиентом в ресторане, потом идем в номер, а охрана остается внизу. Как они поймут, если меня убивать начнут? Никто ничего не сделает, здесь все работает по принципу «помоги себе сам». Девочки ходят с шокерами, но, блин, ты пока до него дотянешься, тебе руку в трех местах сломают. Перцовые баллончики тоже ненадежны, сейчас среди них много подделок. Его тебе потом в жопу засунут. Появилось хорошее средство — стреляющие на расстоянии электрошокеры, но где я его пронесу? Не чемодан же с собой таскать. Все на свой страх и риск, но мне не страшно — со мной всегда приключения случаются.
Сейчас получаю второе высшее образование, учусь на юрфаке. Хочу открыть свое дело, но до этого далеко — сначала надо университет окончить.
Изображения: Саша Спи
Группа Gauga появилась на казанской альтернативной сцене шесть лет назад. Она первой начала исполнять блюз-рок и брит-поп на татарском языке. За эти годы коллектив сменил название, состав, выпустил два альбома и недавно почти устроил слэм в «Соли». А главное доказал, что музыка на татарском — не про скуку, стереотипы и однотипную эстраду.
Enter узнал у лидера Gauga Оскара Юнусова, когда ждать следующего релиза, почему нужно выходить из зоны комфорта и стоит ли делать ставку на рок, если рэп популярнее.

Слева направо: Альберт, Марат, Оскар, Искандер, Альберт
— Сложно представить тебя программистом в Минэкологии, где ты работал — одни полурастегнутые рубашки чего стоят. Ты помнишь момент, когда понял, что пора из госслужащего превращаться в основателя рок-группы?
— Работа в Минэкологии была очень давно, лет семь назад. И увлечение музыкой, и работа в Министерстве шли параллельно, как обычно бывает. Я и сейчас работаю в университете. Мне приходится ходить в «белой рубашке» днем, а вечером набрасывать «черную». Во времена Минэкологии я еще только начинал заниматься музыкой, именно в плане работы с группой, а не самостоятельно дома. И был еще без большого музыкального опыта.
— С тех пор многое поменялось. В начале года Gauga даже обновила состав из-за разницы во взглядах со старыми участниками. С новыми они совпадают?
— Какие-то расхождения будут всегда, где-то меньше, где-то больше. Состав обновился очень резко, изначально я даже не планировал распускать старый. Но видимо, пришло время и так случилось. Причем новые участники появились буквально в один день и пришли из разных мест. С барабанщиком Искандером я познакомился просто в интернете: видел его выступления в других группах и предложил присоединиться к Gauga. В те же дни на музыкальной лаборатории (имеется в виду TAT CULT LAB/ Музыка, — прим. Enter), которую проводил Tat Cult, случилась встреча с Маратом — он гитарист. Также был басист, которого мы, к сожалению, пару недель назад потеряли — он улетел в Канаду на постоянное жительство. Но у нас уже есть достойная замена в лице юного Альберта.
Наш перкуссионист, Альберт, остался, и он — украшение группы, я считаю. В январе мы взялись за работу, в процессе которой часть старых песен несколько поменялась в звучании. Хочется, чтобы в окончательном варианте песни осталось много меня, чтобы сильные изменения ее не постигли. Но каждый вносит свой штрих. Если заморочиться конкретно, чтобы в песне присутствовало много моего соло, то нужно делать все самому. Иногда так и получается, у меня есть записи и наработки. Но это в любом случае требует большого количества времени и работы.
— Значит, возможен вариант, при котором ты делаешь музыку сольно?
— Я и сейчас параллельно это делаю. Например, мы можем выложить материал, записанный совместно с ребятами, а потом я перезаписываю его по-своему — так, как я это вижу. И могу потом тоже выложить, никаких проблем с этим нет.
— В первый раз новым составом вы играли в «Соли». Причем играли так, что я в какой-то момент начала ждать слэм. Каково это, исполняя татарские песни, собрать один из самых модных баров?
— Представить слэм невозможно, потому что у нас 90% слушателей — девушки (смеется, — прим. Enter).
— Ну не знаю. Те парни, которые пришли, были очень активными.
— Там, по-моему, только два парня и было — мои друзья Табрис Яруллин и художник Радик Мусин, вот они зажигали.
— Это все происходило на твой день рождения. Были необычные подарки? Все-таки юбилей — 30 лет.
— Даже не помню. Но в тот же день приехал мой друг с университета, заехал рано утром и преподнес подарок, который сам сделал. Четыре кафельные плиты, которые он сложил и написал на них арабскими буквами фразу «Будь и сбудется». Это был первый подарок, я ближе всего его принял к сердцу, наверное, потому что он от друга. Он тоже был на концерте, но не скакал, а важно сидел за столом (смеется, — прим. Enter).
— У вас сменилась еще и концепция ведения инстаграма — он стал смешным. Кто в ответе за аккаунт?
— Я не знаю, сколько уже человек имеют от него пароль, где-то пятеро его знали, сейчас вроде три: наш менеджер Эндже, барабанщик Искандер и я. Но в основном последние видео я сам выкладывал. Сначала просил Эндже сделать пост: мне казалось, что я далек от этого всего, но потом потихоньку влился.
— Но личного аккаунта у тебя до сих пор нет?
— Да мне кажется, и этот выглядит как личный (смеется, — прим. Enter).
Клип казанской группы Gauga и уфимской Burelar на песню Bal, снятый на iPhone 8. Режиссеры: Александр Ширманов, Роман Колесов, 2018.
— Недавно под одной из фото появилась загадочная надпись про съемки в мелодраме «Дегустация женщины». О чем речь?
— А, это шутка. Искандер позвал нас на фотосессию — фотографировала его знакомая, ей хотелось нестандартного для нее портфолио. Я согласился помочь, и вот мы выложили некоторые фото из той серии. Мне показалось, они похожи на кадр из старого фильма 80-х годов, я придумал название. Многие подумали, что это правда.
— Еще вы с группой работаете над третьим альбомом. Каким он будет?
— Мы его пока обсуждаем. На днях на новой студии записывали лайв, снимали видео. Студия мне понравилась, проработали там с шести вечера до часу ночи. Записали пять песен и, наверное, выложим их в соцсетях. Но мы делали их со старым басистом, который уже в Канаде, чтобы сохранить это звучание на память. Песни войдут в альбом, но будут записаны заново с новым басистом. Планировалось, что летом мы сделаем альбом, а осенью он уже выйдет. Не удалось, к сожалению. Наверное, нужно дождаться подходящего времени, и все само получится.
— Ты говорил, что у тебя много старого материала. Он будет использован или в альбом попадут только новые песни?
— Нет, старые не хочется использовать. Их можно записать и показать когда-нибудь, но нет желания вставлять в предстоящий альбом. Хотя некоторые неплохо вписались бы.
— Планируете потом отправиться в тур с презентацией релиза?
— Да, в ноябре, уже не секрет, что мы играем сольный концерт в Уфе. Я рад этому событию и мне будет очень приятно выступить там еще раз, в крутом клубе MusicHall27. Достаточно важное выступление для нас. Со дня на день запустим афиши.
— У группы уже были выступления и в Уфе, и в Омске, и в Москве. Как вас принимали?
— В Москве приятно играть, потому что аудитория хорошо реагирует, чувствуются тепло и отдача. В Уфе тоже была классная атмосфера, но пришло поменьше народу. Играли три группы: мы, Радиф Кашапов и башкирская рок-группа «Бурелар» во главе с Ильшатом Абдуллиным. Везде есть и приятные стороны, и минусы. Порой, эти минусы не заметны.
— Ты рассказывал, что молодым артистам сложно пробиться в Татарстане без связей — тем не менее, у тебя, человека из маленького города в Башкортостане, это получилось.
— Я думаю, всем сложно и в любом городе свои трудности. Но для кого-то они, может, и не кажутся препятствиями и легко преодолимы. Я же приехал сюда не ради музыки, а по линии спорта, ради баскетбола. Но вышло все иначе. Мы собрали группу в 2013-м и все это выросло в то, что есть сегодня.
— Вам в свое время помог лейбл Yummy Music. Почему ваши пути разошлись?
— Да нет, пути не разошлись. Когда я пришел на лейбл в первый раз, директором был еще Ильдар Карим. Спустя пару лет он уехал в Москву и оставил вместо себя Ильяса Гафарова, который занял его должность. Дружелюбные отношения у нас сохранились и сейчас. Часто пересекаемся с Ильясом в нерабочее время обсудить планы и отдохнуть в товарищеской компании. Я всегда готов им помочь, а они мне, но когда ты подписант какого-то лейбла, то в один момент перестаешь работать и начинаешь ждать, что тебе будут помогать, подкинут что-то. То есть все время проходит в ожидании. Это терзало меня изнутри, поэтому я решил выйти из Yummy Music и взять все в свои руки. Решение оказалось отчасти действенным, но в любом случае мы сотрудничаем с лейблом. Например, организацией и рекламой концерта в «Соли» занимался именно он. С организацией концерта в Уфе они тоже помогают.
— Что изменилось после ухода с лейбла?
— Для группы ничего не поменялось, но изменилось мое внутреннее состояние. Я почувствовал себя свободнее, то есть понял, что многие вещи могу делать сам, не нужно ничего ждать, надо просто делать свою работу.
— Твои тексты, на мой взгляд, — это хорошие глубокие стихи. Многие музыканты выпускают свои сборники, Дельфин, например. У тебя была такая мысль?
— Для меня мои стихи и тексты песен сильно отличаются и разница между ними велика как при создании, так и в итоговом материале. Желание выпустить сборник было, но не как книгу со стихами, а как собрание песен с переводом. Когда пишешь стихи, преследуешь высокий стиль, поэтичности требует и фраза, и предложение в целом. Когда сочиняешь композиции, ищешь слово, подходящее под «ноту» или гармонию — чтобы они звучали параллельно и перетекали друг в друга в течение всей песни, для раскрытия характера слова, его лица, его веса в данном контексте. Стихотворение же — самостоятельное произведение и работает само на себя без помощи музыки.

— А ты сам анализировал, как меняются темы в твоих текстах песен и стихах со временем?
— Да. И возможно, в худшую сторону (смеется, — прим. Enter). Точнее не в ту, в какую мне хотелось бы. Я начинал с глобальных тем: вопросов жизни, ее восприятия, смерти — того, что волнует юношу. Теперь такие темы редкость: сажусь писать — не выходит, а сочинять через силу я не хочу. Если не получается, начинаю заниматься чем-то другим. На сегодня тексты в моих песнях стали проще, они приняли разговорный вид — просто монолог человека, который вышел на улицу и о чем-то говорит во дворе с товарищами. Но это искренне и соответствует времени.
— Мне кажется, в тех песнях, что ты делаешь сейчас, по-прежнему есть какая-то провокация: иногда это сексуальный подтекст в текстах или неоднозначный клип — на композицию «Бал», к примеру. Это выходит намеренно или получается само собой?
— Само собой. Когда я сажусь работать над песней, должна появиться подходящая фраза в процессе работы: я ее не обдумываю заранее, не подготавливаю. Просто она возникает, и я понимаю, что вот с этим можно поработать — в том числе, так было с песней «Бал» (в переводе с татарского «мед», — прим. Enter). Именно «Бал», «Аламам», «Ал иреннәр» — песни, которые и пишутся мной сегодня.
— Ты чувствуешь давление татарского консерватизма — не внутри группы, а снаружи?
— Я его на себе не ощущаю, может до меня некоторые высказывания просто не доходят. Бывало, люди говорили, что им не нравится относительно группы, но это было просто выражение антипатии или моментами симпатии. Я имею в виду мнение местных артистов о нас. У меня есть пара знакомых исполнителей татарской эстрады, которым импонирует наша музыка. Наверное, поэтому мы и общаемся, если было бы наоборот, вряд ли это было бы возможно.
— То есть артисты татарской альтернативной сцены и татарской эстрады могут вообще не пересекаться, даже работая в рамках одной индустрии?
— А мы и не пересекаемся, у нас все фестивали и концерты проходят там, где эстрадой и не пахнет. Ее представители в этих местах не бывают и, возможно, даже не знают о них.
— Тебе самому нравится татарская эстрада?
— Я могу сказать, что люблю татарскую музыку, если она сделана хорошо. Слушаю то, что мне по душе, но кого-то конкретного выделить не могу. По большей части речь о народной музыке, именно в этих песнях я вижу личность, независимо от того, кто их исполняет: Рафаэль Ильясов, Габдулла Рахимкулов, Сара Садыкова, Фарида Кудашева. Их исполнение закрадывается в самое сердце — значит вот она, прекрасная работа. Сами песни очень сильны. Грешно татарину не поддаться всему этому внутри себя.
— На Tat Cult выступали татарские зарубежные коллективы и исполнители: Зуля Камалова, Başkarma. Чем они отличаются от наших, местных, по твоему мнению?
— Мне понравилось звучание Зули Камаловой, в этот раз оно было достаточно оригинальным — задействовали своеобразные инструменты. Başkarma тоже звучали очень современно и актуально, несмотря на то, что их песням больше 30 лет. Все остальные, в том числе мы, играли по стандарту. После фестиваля мы с Денизом (создатель финско-татарской группы Başkarma, — прим. Enter) и Умидом (участник финско-татарской группы The Sounds of Tsingiskhan, — прим. Enter) поиграли у нас на студии пару часов, затем посидели в баре и я провел их по Казани. Дениз Бадретдин планирует вернуться сюда в декабре или январе и предлагает сделать совместный проект с нами и еще парой ребят. Умид — приятный по общению парень, хороший гитарист. Ему осталось год доучиться в Финляндии, но у него есть вариант продолжить учебу здесь, в Казани. Он поделился своим желанием это сделать, и я с радостью предложил ему помощь.
— Недавно мы как раз общались с Денизом Бадретдином, который говорил о том, что рок — музыка протеста. Ты с этим согласен?
— Если говорить о музыке, которую делаю я, то осознанно протест, конечно же, я не вкладываю. Но в песнях нашего направления я приветствую наличие мужского характера, дерзость. Наверное, это можно назвать в каком-то смысле протестом.
— А что вызывает у тебя негодование?
— Фальшь и несправедливость, я с трудом могу это принять. Как это перевести на работу… Что-то накапливается внутри — негодование или сочетание всех чувств, эмоций и переживаний, которые усваиваются в процессе жизни и оставляют след. Они-то и находят отражение в музыке. Я анализировал свои старые песни и заметил, что все происходит именно так — накопленное во мне выходит наружу через них.
Но в последнее время это бывает редко. Наверное, есть две причины. Во-первых, сейчас я значительно меньше работаю, к сожалению, и мне такой расклад не нравится. Либо приходится где-то играть, что-то записывать, либо еще чем-то заниматься, только не сидеть и не работать над материалом. А во-вторых, осталось мало вещей, которые вызывают у меня эмоции. Это досадно, но как будто бы я много к чему испытываю равнодушие.
— Ты однажды назвал себя малоэмоциональным человеком, сильные эмоции у которого вызывают только баскетбол и музыка.
— Да, и это сохранилось до сих пор.
— Если музыка помогает выражать эмоции, то кажется, российские исполнители сейчас активно этим пользуются. Как ты относишься к тому, что творчество бывает еще и инструментом для выражения гражданской позиции?
— Это радует. Многие из музыкантов говорят толковые вещи, не столь важно каким языком и какими словами, но ведь молодежь к ним прислушивается — все на благо. Например, Макс Корж.
— Вообще за ситуацией в Москве и в стране в целом следишь?
— Я человек аполитичный, начнем с этого. Это не то, чем можно гордиться, но такова правда. За происходящим слежу, конечно же, с позиции гражданина страны. За новостями слежу из телеграм-каналов. Спасибо за это Дурову.
— Раньше ты много времени посвящал баскетболу и в те же годы слушал афроамериканский рэп. В России рэп сейчас стал, кажется, самым популярным жанром. Например, появилась целая плеяда уфимских рэперов, а ведь Уфа считалась рок-столицей. Как ты к этому относишься?
— В Уфе много хороших, решительных и везучих музыкантов — может, это ответ. Когда был популярен рок, они играли его, а теперь время рэпа и они делают рэп, причем очень толково, успешно. В Уфе даже на улице заметны неформалы, по внешности которых видно — они в тренде, чувствуют музыку и понимают, что именно модно и как все это живет среди людей.
— А тебе самому интересен русский рэп?
— Я, конечно, прослушивал современных рэперов, мне было интересно, и сейчас продолжаю временами слушать; много чего мне нравится, но это не моя музыка.
— На тебе до сих пор наушники. Что слушал, когда шел сюда?
— Ничего, здесь идти три минуты, я надел наушники, чтобы не пропустить звонок. Но сейчас я слушаю примерно то же самое, что и десять лет назад: мне нужно что-то блюзовое, британское. Я получаю удовольствие от музыки, в которой присутствуют пижонство и брутальность. Один музыкант сказал: «У музыки должны быть яйца», — я согласен с этим. А вчера я послушал альбом Эда Ширана. Классные песни, но это совсем не мое, такая милота.
— Ты у меня в сознании совсем не стыкуешься с его музыкой.
— Да, но у меня же тоже есть такие песни. К примеру, «Акыллым» — супермилая композиция, мы ее играем на одном из десяти концертов. Видимо, очень редко я тоже могу скинуть с себя костюм «грубости» и стать милым парнем.
— «Алсу», кстати, тоже классная песня.
— Мне кажется, они обе очень личные и камерные — их нужно играть в тишине, в темноте или при свечах. Но точно не на фестивалях.
— Про твои песни говорили, что они — современный «моң» (пение с душой, — прим. Enter). А что для тебя значит это понятие?
— Я знаю только одного человека, который так говорил — Ильшат Саетов. В прошлом журналист, директор центра изучения исламской цивилизации КФУ, ныне — директор российско-турецкого научного центра в Москве. И уже второй год учится на режиссера. Делает крутые вещи, — кажется, он нашел себя! У него получается очень здорово. Человек как будто создан для такого дела. Надеюсь, однажды начнет снимать хорошие татарские фильмы.
— И клипы, пожалуйста! А он объяснил тебе, почему считает, что твои песни — современный «моң»?
— Мы сидели у него на кухне в Москве, и он произнес эту фразу после того, как послушал песню «Алсу». Я сам вряд ли сказал бы так — возможно, в моей музыке и есть частица «моң»: она заключается в искренности, умении прочувствовать и передать переживания в песне. Я стремлюсь быть искренним в своих текстах, делаю это в первую очередь для себя — если человек не честен с собой, он не может себя уважать.
— Если ты начнешь сочинять песни на русском или английском, «моң» из них исчезнет?
— Конечно, это же все зависит от языка. Когда я пою на русском, то словно превращаюсь в совсем другого человека. И на английском все звучит иначе, еще я пробовал петь на турецком — тоже чувствуется отличие. Татарам везет — «моң» есть только у них, передать его с помощью другого языка — дело трудное, а может и невозможное.
Фото: Даниил Шведов
Роман «Зулейха открывает глаза» писательницы родом из Казани Гузель Яхиной вышел в 2015 году. Прежде чем книгу опубликовали, рукопись побывала в разных издательствах и почти везде получала отказ. Теперь роман перевели на 34 языка и вручили ему самые престижные в России литературные премии.
Этой осенью на телеканале «Россия 1» выйдет экранизация книги из восьми серий с Чулпан Хаматовой в главной роли. В Казани устроили закрытый показ фрагментов сериала. Enter рассказывает, что из этого получилось и как к экранной адаптации относится Гузель Яхина.

Гузель Яхина
Казанскому зрителю планировали включить первую серию экранизации романа, но что-то пошло не так. Ее создатели не успели доделать финальный монтаж, поэтому решили показать чуть больше по сюжету и чуть меньше по хронометражу — двадцатиминутный фрагмент сериала. Показ проходил в просторном зале культурно-досугового комплекса имени Ленина в Авиастроительном районе. Вход строго по пригласительным билетам и спискам, кто куда сядет определено заранее.
Перед началом слово взяли продюсер Илья Папернов, режиссер Егор Анашкин и сама Гузель Яхина. Рассказывали о процессе съемок и его забавных деталях — например, привлеченные эксперты по татарскому быту никак не могли решить, может ли массивный советский стол стоять в жилище Муртазы и Зулейхи. А подходящую татарскую деревню искали очень долго — не находилась в Татарстане настолько заброшенная, как того требовал сюжет. Так, кстати, в Лаишевском районе и появился Семрук.
Сдержанная и спокойная Гузель Яхина отвечала на все вопросы. Не улыбалась, не сутулилась и много говорила — о том, как видела в роли Зулейхи именно Чулпан Хаматову и что сюжет новой книги есть, но появится она не скоро. После показа в зале шмыгали носами и утирали глаза — выглядела кинонарезка трогательно, но очень по-сериальному. Больше всего запоминаются глаза Чулпан Хаматовой — сначала испуганный, затравленный взгляд татарской деревенской женщины, затем метаморфоза — и на экране лицо человека в неволе, но свободного внутри. С писательницей, создавшей такой противоречивый женский характер, успеваем поговорить минут 15 — график плотный, вместо ужина у Гузель — еще только обед.
— Вы говорили, что в российском кинематографе есть большой разрыв между интеллектуальным авторским кино и фильмами, рассчитанными на массы. А вот чего-то посередине хватает, и эту нишу могли бы занять сериалы. Экранизация вашей книги может на это претендовать?
— Мысль о провале между авторским, очень интеллектуально сложным, высоколобым кино и массовым кинематографом, рассчитанном скорее на юного зрителя, не моя. Такое мнение существует в киносреде, и я к нему примыкаю и совершенно поддерживаю. Но я вижу, что уже сейчас в России делают и выходят на экраны те сериалы, которые заполняют этот срез. Это здорово.
Три-четыре-пять лет назад можно было говорить об одном-единственном российском сериале, достойном обсуждения — «Оттепель» Валерия Тодоровского. Сейчас таковых становится больше, к ним можно причислить и «Звоните ДиКаприо» Жоры Крыжовникова, и «Домашний арест» Петра Буслова, и в какой-то мере «Обыкновенную женщину» Бориса Хлебникова. То есть первой ласточкой была «Оттепель», а теперь появляются и другие. Я бы хотела надеяться, что сериал о Зулейхе тоже встанет в этот ряд — хотела бы, но не могу, потому что финальная версия еще не готова. Сейчас рано говорить о том, что мы в итоге увидим на экранах.
— Да, от монтажа очень многое зависит.
— Именно. А то, что я видела, было скорее режиссерской версией и судить по ней о конечном результате пока не возьмусь.
— Вы смотрели сериал и глазами писателя, чье произведение экранизируют, и глазами человека с профессиональным сценарным образованием. Это сделало ваше восприятие более субъективными или объективным?
— Субъективный взгляд автора романа, конечно, был — любое отклонение от оригинальной реплики меня возмущало. Это если говорить о мелких вещах, а были и более крупные — например, какие-то истории, добавленные сценаристами в частности предыстории персонажей — питерских интеллигентов. Все такие моменты воспринимались как неродные с одной стороны, а с другой — я как человек со сценарным образованием понимаю, насколько сложно перевести литературный текст на язык экрана. Процесс очень трудный, иногда просто невозможный, поэтому я старалась не иметь ожиданий. Скажем так — я смотрела не на отдельные деревья, а на весь лес. Если к отдельным деревьям у меня могут быть какие-то претензии, и, поверьте, их немало, то лес в целом кажется мне прекрасным и достойным.
— Насколько вы были вовлечены в съемочный процесс?
— Я не была вовлечена в съемочный процесс вообще никак. Меня пригласили почитать сценарий и дать свои комментарии, я это сделала дважды — во время просмотра одного из самых первых вариантов сценария и уже близкого к финальному. По мере надобности отвечала на вопросы режиссера и актеров, некоторые моменты мы обсуждали с художником-постановщиком сериала Рашитом Сафиуллиным. Я старалась помогать, но не мешать процессу, мне казалось важным, чтобы режиссер чувствовал себя свободным и делал то, что считает правильным. Но при этом ощущал мою поддержку — надеюсь, так и было.
Можно сказать, это была игра вслепую, потому что при подписании договора с каналом «Россия 1», я не знала режиссера — человека, которому отдадут проект. Мне кажется, режиссер Егор Анашкин — большая удача, роману просто повезло, что он попал в такие руки и в экранизацию вложено столько души. Такое неравнодушие и трепет по отношению к теме, историческому, этнографическому материалу и драматургии ощущается.





Кадры из сериала «Зулейха открывает глаза»
— Финал всегда является ключевой точкой произведения, к которой ведет весь сюжет. Конец экранизации отличается от книги. Не изменило ли это общий посыл, заложенный в романе?
— Финал действительно придуман сценаристами канала «Россия 1», и в нем есть важные элементы, которая я когда-то придумала для концовки фильма о Зулейхе. Это было в то время, когда писала роман в виде сценария в школе кино. Мне финал кажется вполне симпатичным, это один из многих вариантов того, что могло случиться с Зулейхой и Игнатовым в реальной жизни после завершения действия книги в 46-м году. Концовка естественная для такой драматической истории, в ней показаны картины взрослого Юсуфа, который стал художником, а сами полотна писал Рашит Сафиуллин. Мне было приятно увидеть знакомые работы, но этим его участие в проекте не ограничивается — это только одно из касаний Рашитом проекта.
— В начале интервью мы провели некую градацию кино, есть ли у вас похожая классификация для литературы?
— Нет, я думаю об этом лучше спрашивать у знатоков литературного рынка, я вам в этом вопросе не ответчик. Наверное, в силу своего образования я больше знакома с миром кино, а вот так вот очертить поле современной российской литературы и создать классификацию я не возьмусь.
— Сколько вам нужно мысленно прожить с героем будущей книги, чтобы понять — вот сейчас он стал почти реальным и пора садиться за работу?
— Здесь не может быть никаких рецептов: две недели, два месяца или два года. Необходимо много времени, чтобы прожить саму историю, прежде чем начать ее писать, это правда. Говоря об истории, я имею в виду и героя книги, и всех персонажей, и их взаимодействие, и сочетание с тем миром, в котором разворачивается сюжет.
Сюда же важно отнести и язык, которым будет написана книга, потому что искать его тоже нужно достаточно долго. Да и вообще, все ключи к рассказу или большой истории должны каждый раз подбираться заново, и это, конечно, требует времени. Поэтому я верю, что его количество, вложенное в историю, все-таки сказывается на произведении. Ощущается, был ли сюжет прочувствован, прожит или это некий быстрый продукт.
— А герои истории меняют писателя? Они же тоже обретают свои характеры, которые отличаются от характера рассказчика и могут его чему-то научить.
— Не столько герои, сколько вся история. Я не склонна выделять персонажа как отдельную, пусть и придуманную, личность. А вот сюжет, который раскрывается с помощью языка литературы, складывается из линий, героев и структуры повествования. Для меня все это — три части единого целого. Это не моя мысль, я прочла ее у Роберта Макки (автор книг о сценарном мастерстве, — прим. Enter) и совершенно с ней согласна.
Что такое сюжет? Раскрытие персонажа через какие-то события, а под историю, описанную в книге, создается целый мир. В кинематографе есть понятие «чувство целого» — оно вбирает в себя все детали. История несомненно влияет на автора, потому что он живет с ней голове и в сердце много месяцев, а иногда и лет.
Также существуют и сюжеты, которые меняют читателей. Здесь вспоминается картина Александра Сокурова «Фауст»: жюри Венецианского фестиваля дало ей главный приз с формулировкой «фильм, который меняет жизнь каждого, кто его увидит». Точно таким же образом большие истории, рассказанные языком литературы или кино, конечно, влияют и на самого автора — и необязательно в лучшую сторону. Но это всегда наращивание отдельного, дополнительного кусочка души.
Фото: пресс-служба КФУ
Финско-татарская группа Başkarma появилась в 70-х годах в Хельсинки. С тех пор она проехалась по десяткам европейских площадок, выпустила две пластинки, а в 90-х собрала полные залы в двух российских столицах. На родине коллектив продолжает давать концерты, но почти всегда в неполном составе. Ради фестиваля Tat Cult Fest в Казань приехали все ее участники.
Enter встретился с одним из основателей группы Денизом Бадретдином, бас-гитаристом Раифом Хайруллой и вокалистками Бетул Хайретдин и Диной Ясмин. Поговорили с артистами про цензуру в местной эстраде, будущем татарской музыки и предназначении музыканта.

— Вопрос к вам, Дениз. Вы создали первые татарские рок-группы, несколько лет назад вы говорили, что для вас рок — это музыка протеста. Против чего вы протестовали, когда решили основать свои коллективы?
Дениз Бадретдин: Мы начинали в 60-х годах, в то время, когда люди в мире почувствовали запах свободы и возможность почти беспрепятственно выражать свои мысли. Нас вдохновляли мировые события: антивоенное движение в Америке, нежелание американцев конфликтовать с Кореей и другие моменты. К тому же мы заслушивались песнями The Beatles, они очень повлияли на нас. Когда тебе 16-17 лет, ты всем этим заряжаешься и хочется попасть в поток, творить на волне такой атмосферы. Наша музыка была полна подобными настроениями.
— Вы и сейчас продолжаете играть рок. Значит, что-то по-прежнему вызывает у вас протест?
Дениз Бадретдин: У меня много разных коллективов и у каждого из них свои цели. Если говорить о Başkarma, то это попытка переосмыслить национальные песни, сделать для них необычную аранжировку и раскрыть слушателям с другой стороны. Группа Super Tatar, с которой я приезжал на Tat Cult Fest в прошлом году, больше про эстрадные песни. Но ее миссия — продемонстрировать, что эстрада может отличаться от той, какой мы привыкли ее видеть. И она точно бывает не похожей на вашу, местную. Другой коллектив, в котором я играю — KGB или Kazan Gruppasi Bedretdin призван разорвать устоявшиеся шаблоны татарской музыки с помощью рока.
— То, что вы делаете вместе с Başkarma, кардинально отличается от того, по какой дороге идут местные исполнители татарской эстрады, словно это два разных пути развития. Какой вам кажется перспективнее?
Дина Ясмин: Мы живем в Финляндии, но периодически выступаем и за ее пределами. Татары живут еще и в других странах: в Америке, Австралии и в Швеции, куда мы ездили с концертом. И я больше всего верю в молодежь — среди них есть очень сильные музыканты, которые делают миксы из разных стилей. Но самое главное — петь именно на татарском языке и сохранить его. Мы стараемся подавать пример, чтобы он был заразителен и его подхватывали новые поколения. У них на самом деле много идей. А если мы сами не будем исполнять песни на татарском, то со временем наша культура сойдет на нет.
Раиф Хайрулла: Да, там, в Европе, есть молодые музыканты, которые сочетают татарский с западным звучанием и на выходе получается совершенно новый продукт. Всегда интереснее слушать что-то, образованное на стыке нескольких культур. Радует, что наша идея живет.
— Зато наша эстрада явно не склонна к экспериментам. Вы знаете кого-нибудь из ее представителей?
Дениз Бадретдин: Не могу многого о них сказать, потому что не слушал. Но у них есть определенные проблемы. Дело не в том, что это плохие, непрофессиональные певцы и артисты, а в рамках, созданных для них. То есть в существующих для творчества ограничениях — вот за это у меня болит сердце. Им говорят, что и как они должны делать.
Мне нравится одна местная певица — Ильсия Бадретдинова, ее муж написал очень хорошие песни. Например, про девушку по имени Алсу, которая уехала учиться и стала проституткой. Когда мы встретились на каком-то музыкальном фестивале, я спросил у Ильсии, когда она споет эту композицию на сцене. А она ответила: «Нет, Дениз, мне нельзя ее исполнять. Мне приходит лист с разрешенными и запрещенными песнями, и она во втором списке». Что это такое, а? Ведь такие песни — это и есть жизнь.
Бетул Хайретдин: Мы еще на пластинке слушали музыку татарского композитора Луизы Батыр-Булгари. Она написала много песен, которые пришлись нам по душе.
Дина Ясмин: То, что мы поем — модификация старых песен на нашем родном языке. Мы слышали их от бабушек и слушаем, потому что они нам нравятся по-прежнему. Это относится и к музыке Луизы Батыр-Булгари. У нее интересные песни и мы даже познакомились с ней лично, когда приезжали в Казань. Но творчество новых местных артистов не слушаем.
Раиф Хайрулла: Я то же самое могу сказать и про себя. Мне больше нравятся артисты тех времен: и музыка Луизы Батыр-Булгари и песни Ильхама Шакирова. Мне не интересна татарская эстрада, потому что ее представители похожи друг на друга, они словно копии. Но на Tat Cult Fest выступают молодые исполнители, они поют на родном языке и цепляют меня своим творчеством куда больше.

— Кто именно? Juna, Gauga?
Раиф Хайрулла: Да, они.
Дениз Бадретдин: Кашапов еще, но он же не относится к вашей эстраде.
— Нет, они представители альтернативной сцены. А вы думали сделать с ними что-то совместное?
Дениз Бадретдин: Шла речь о совместном джем-сете, потому что мы здесь ненадолго и на что-то большее времени не хватит. Зато могли бы поделиться опытом, устроить музыкальную встречу.
— А что слушают молодые ребята в Финляндии: вашу музыку или западных артистов? Я имею в виду именно татар.
Дениз Бадретдин: Очень разных исполнителей. Они почти не знают современную татарскую музыку, и я уверен, что если услышат тех же Кашапова и Gauga, им стопроцентно понравится. Вот бы они могли приехать на фестиваль и познакомиться с такой музыкой. Моим детям по 30 лет и они во время разговоров про Россию и Татарстан, говорят: «Уф, это все русский рок, он еще не вырос». Они не понимают, что у вас есть хорошие артисты. Поэтому мы и стараемся изменить подобное отношение.
— Вы говорили, что музыка Başkarma в Европе востребованнее, чем в России. Это связано с тем, что европейцы воспринимают общее звучание песен, а россияне чаще обращают внимание на язык. Чем еще отличаются слушатели там и здесь?
Дениз Бадретдин: Все-таки мы, как артисты, росли на Западе, поэтому в наших аранжировках много элементов, привычных для слуха европейцев. Пусть для них татарский язык — своего рода экзотика, но музыка все равно понятна, поэтому хорошо воспринимается. Некоторые финские артисты, исполняющие народные песни, говорят, что наши национальные композиции похожи на их. В 1991 году мы выступили с двумя концертами в Театре эстрады в Москве. Там были такие открытые слушатели, пришли и русские. Ко мне потом подошел художественный руководитель театра Борис Брунов и сказал, что еще не видел такого количества людей на концертах.
В Казани тоже тепло принимают, но здесь создается странная ситуация — я неоднократно говорил слушателям, чтобы они приводили на концерты своих русских друзей. Но они отвечают: «Нет, это наше! Эти финские татары только наши!» А на концертах Kazan Gruppasi Bedretdin было около 40% людей других национальностей, им все нравилось.
Дина Ясмин: Европейцам, особенно финнам, очень нравится наша музыка. Они считают, что в ней есть некая меланхолия, которая им тоже свойственна. Потому и восклицают: «Какая хорошая мелодия!», даже если совсем не понимают слова. Каждый раз очень тепло принимают нас на фестивалях, будто чувствуют что-то родное.
— Вы занимаетесь музыкой несколько десятилетий. Как за это время менялось отношение к роли музыканта и творчеству в глобальном смысле?
Бетул Хайретдин: У меня все идет из детства — я любила петь еще ребенком, так же как мои мама и бабушка. И мне нравится петь на татарском, особенно вместе с нашим коллективом — слушателям от этих песен становится хорошо, и я чувствую то же самое. Музыка для меня — отдушина, наверное, я таким образом выполняю свое предназначение. В этом и есть роль музыканта.
Дина Ясмин: Мы поем и в разных ансамблях, но пение на родном языке трогает наши сердца. Просто то, что мы делаем, нужно и нам и людям, музыка помогает им чувствовать себя отлично. В песнях Başkarma есть особенные нотки, доставшиеся нам от бабушек, и эту аутентичность мы несем в другие коллективы. Мы приезжаем со своими песнями, которые объединяют людей — в этом и есть смысл музыки. Она похожа на способ общения разных жителей планеты друг с другом.
Раиф Хайрулла: Когда тебе грустно, ты слушаешь музыку. Я тоже так делаю и в этот момент забываю об остальном мире и восхищаюсь ей, радуюсь. Сейчас изменились и способы ее распространения — силу набрали YouTube и Spotify. Стало проще выходить на связь со слушателями, что открывает прямой доступ к их сердцам. Музыка передает эмоциональное состояние, это как вибрации другого уровня — то, что не выразишь словами. Появление различных площадок в обход традиционных радио и ТВ дает возможность быстрее получить обратную связь, стать лучше.
Дениз Бадретдин: Если говорить о музыке в глобальном смысле, то в России и Европе сейчас есть костяк радиостанций, которые крутят примерно одинаковые треки. Они сотрудничают с записывающими компаниями и пиарят их артистов. И неважно, сколько молодых и талантливых музыкантов подрастает — систему сложно изменить. Это кажется мне грустным. То, что крутится на радио, в основном делается ради зарабатывания денег — таким исполнителям важно иметь часы Rolex на руке и накаченную попу, эффектно смотрящуюся в кадре. Молодежь еще заряжена идеей творить и тем, что они могут через музыку говорить с людьми о наболевшем. Конечно, хорошо за это и деньги получать, ведь творчество требует вложений средств, времени, труда. Но все-таки создание нового выше материального — вот в этом я и вижу цель музыки, ее смысл.
— Кстати, про коммерческую сторону вопроса: вы когда-нибудь думали, что если создавали бы песни на английском, то могли собирать стадионы как U2, например?
Дениз Бадретдин: У нас изначально была мысль делать что-то именно с татарским подтекстом. Иногда я пою блюз на английском, но много лет переживаю в первую очередь за сохранение родного языка. Надо создавать татарскую музыку, иначе молодежь в городах не будет ее слышать и переключится на английские, русские и любые другие зарубежные песни. Наконец Ильясу Гафарову (один из организаторов фестиваля, создатель лейбла Yummy Music, — прим. Enter) дали возможность сделать Tat Cult Fest и поддержать молодых артистов. О том, что нужно создать нечто подобное, мы говорили еще 30 лет назад во время первых визитов в Казань. Твердили о поддержке молодежи, свободе творчества для них и о будущем, которое им предстоит менять, если предоставить условия.
С другой стороны, в 90-х годах наши концерты с татарскими песнями были очень популярны в Москве и Санкт-Петербурге. Нас звали выступать в Самару, Екатеринбург, Уфу и предлагали хорошие деньги за тур. Но тогда настроение в группе было такое «Нам это не нужно, обойдемся без лишнего» — мы не были нацелены на коммерцию.
Дина Ясмин: Я никогда не думала петь на английском, мы исполняем песни на татарском — это музыка наших бабушек и дедушек, она должна звучать на своем языке. Когда мы начинали как Başkarma, то даже не думали делать на этом деньги. Важно было сохранить атмосферность композиций, а она потеряется, если записывать песни на английском.
Раиф Хайрулла: Мы играли и с индусами, и давали концерты с финнами в Финляндии. Но именно Başkarma помогает сохранять идентичность и самобытность нашей культуры, таков смысл. Много денег это, конечно, не приносит. Но если исчезнет язык, вместе с ним пропадет м культурный код народа.
Бетул Хайретдин: Нас, татар, и так мало в Финляндии. Когда мы приезжаем петь для них, у них даже выражение глаз меняется. Да, непривычная аранжировка, но звучит родной язык. Когда я пою, люди открываются, им становится хорошо, как и мне. Вот то, что нам нужно в этом мире.
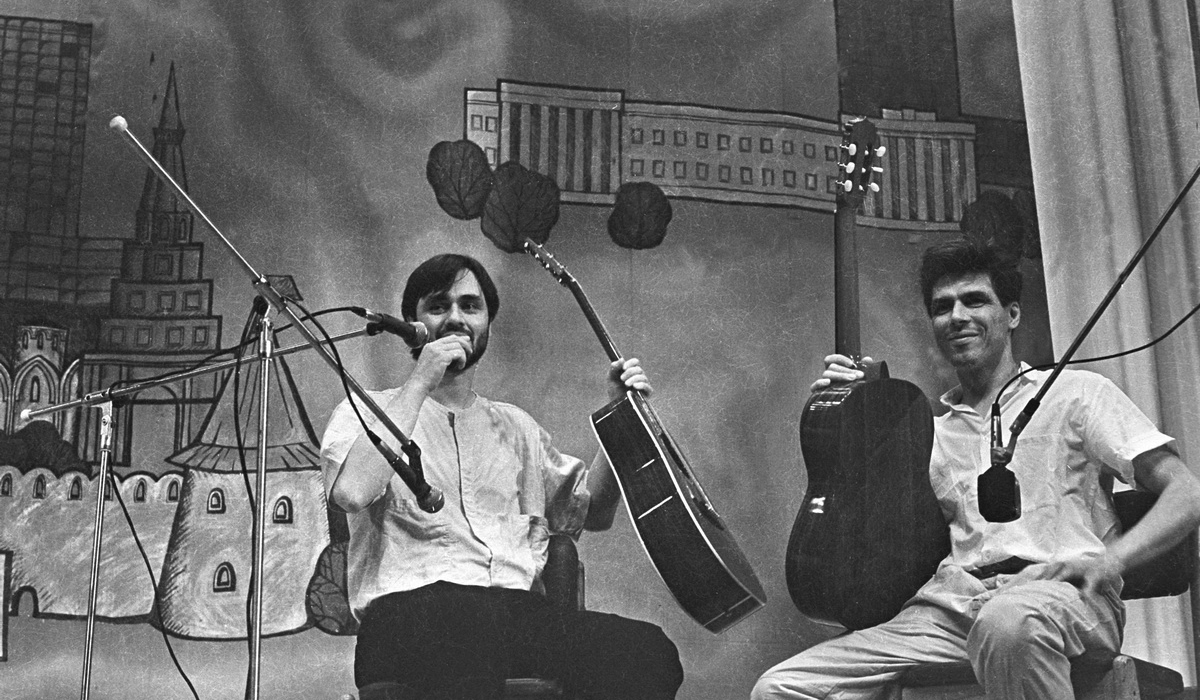
— А сейчас на ваших концертах в Москве и Петербурге собирается много людей?
Дениз Бадретдин: В основном мы выступаем только для татарской диаспоры в Финляндии. Да и то, концерты дают только три или пять участников группы — те, кто смог приехать. Мы собрались полным составом, чтобы сыграть здесь, в Казани, но обычно всем скопом не ездим.
Раиф Хайрулла: Иногда делаем тур, но как мини-Başkarma.
— Историк Искандер Гилязов сделал прогноз, что через пару поколений татарские диаспоры в Финляндии исчезнут. Что вы об этом думаете?
Дениз Бадретдин: У нас деды были суровыми, никто даже не спрашивал: «Будешь ли ты учить татарский?» Когда я был в Хельсинки, у меня поинтересовались, зачем он нужен. Я знаю ответ — во время поездок в Татарстан могу разговаривать на родном языке, также он относится к тюркской группе, а на ее языках общаются миллионы людей на планете. Я понимаю речь финских уйгур, узбеков, азербайджанцев, мне легко выучить турецкий. А значит татарский нужен. Можно, конечно, надеяться, что кто-то придет и сделает что-нибудь для сохранения языка, но и самим нельзя сидеть на месте. У нас и дома в первую очередь говорят на татарском, а финский наши дети учат на улице. Если говорить на финском везде, то где наши дети выучат родной язык? Это ошибка татар в Татарстане — дети не растут в родной языковой среде. Но ведь в этом нет ничего сложного — просто общайтесь с ними на татарском.
Бетул Хайретдин: Мамы и папы говорили нам: «На финском не говори!»
Дениз Бадретдин: Потому мы и знаем свой язык.
Фото: Предоставлены организаторами Tat Cult Fest
В сентябре у Альберта Шарафутдинова, более известного под псевдонимом Нурминский, выйдет первый альбом. Три года назад он начинал как татарский исполнитель, выкладывал треки в соцсети и даже не думал, что The Flow назовут его хитмейкером. С количеством лайков росла и популярность, а после хита «Мент» о фрешмене заговорили за пределами Татарстана. Сейчас у клипов артиста миллионы просмотров, а сам он только-только перебрался из Балтасинского района в Казань.
Нурминский выступит в Казани 30 августа в рамках фестиваля новой татарской культуры Tat Cult Fest. Редакция Enter съездила в родное село музыканта Нурма, в честь которого он взял псевдоним, и спросила о звездности, опыте в кино и митингах.

От Казани до Нурмы добираться часа два. На въезде в Балтасинский район есть заправка, на которой нас ждет серый мерседес. Номера те самые, знаковые — 105. Именно столько километров от столицы Татарстана до родного села Альберта. Из машины, особенно эффектной на местных дорогах, возрождатель жанра «уличный рэп» выходит в тапках, бриджах и футболке.
Первым делом шутим: «А где же джип?», он в ответ улыбается «Бронированный, весь заряженный, тонированный? Дома в гараже стоит». Но туда нас не приглашает, на интервью едем в парк неподалеку и удивляемся — ничего похожего на место отдыха в сельской местности, скорее что-то европейское. По ровным дорожкам идем к беседке, где прячемся от солнца. Парень с суровым взглядом на фото в жизни оказывается намного проще — часто шутит и эмоционально жестикулирует. Кажется, он еще не до конца привык к статусу рэп-звезды, ажиотажу на концертах и сотням тысяч подписчиков.
— Как твой план по завоеванию мира, о котором ты когда-то рассказывал?
— Это придуманная история. В какой-то момент все начинают задавать вопросы вроде: «Какие планы на будущее? Куда поступишь?» Вот я окончил школу, сходил в армию, пошел в институт, что дальше? Тогда стал отвечать — а дальше завоевываю мир. Ну просто по приколу говорил, потому что люблю пошутить. Началось все, когда я сидел дома и составлял список дел на завтра. Решил не заморачиваться и сделать табличку, обклеил стикерами и написал «План по завоеванию мира». Проснулся утром — хоп, посмотрел на часы, все по задуманному, иду покорять планету.
Потом эта привычка отразилась на творчестве. Во время гастролей каждое выступление обозначал как один день — получалось что-то типа «Казань, план по завоеванию мира: день девяносто такой-то».
— На сколько процентов мир завоеван?
— Было 111 концертов, значит столько же дней, потраченных на его завоевание. Из каждого города привожу магнитик — уже весь холодильник в них. Почти всю Россию объездил, впереди альбом. Кто-нибудь когда-нибудь спросит, сколько времени мне понадобилось, чтобы всего добиться, а я смогу ответить.
— Ты начинал с того, что выкладывал песни в соцсети и ждал фидбек от слушателей. Все это превратилось в контракт с продюсерским центром и гастроли. Как популярность изменила твою жизнь и тебя?
— Я не думаю, будто что-то поменялось, но популярность чувствуется. Здесь, в районе, меня давно знают, а в городе подбегают, по-другому реагируют. Мне хочется просто сходить в магазин как нормальный человек, но кажется, словно на меня смотрят или сейчас начнут подкалывать. Странное ощущение. Я спокойно отношусь к славе, многого стараюсь себе не позволять — не хочу зазвездиться.
— А родные и друзья слушают твою музыку?
— Друзья песни слышали, но нельзя назвать их фанатами. Говорят, я молодец, радуются, а есть и те, кто наоборот. Даже на районе часть людей поощряет, а другие отмахиваются — мол, да чем ты вообще занимаешься? Бывают и неприятные моменты. Я начинал с татарских песен и родственники, конечно, льстили: «О, да, такой молодец, это круто». До сих пор помню, как мне говорили пробовать и тогда по-любому что-то получится. Однажды нашел в интернете минус для трека, записался, все собрались послушать — мне было так стремно. Они сидят, хвалят, а потом при гостях просят поставить свою музыку. Прошло уже два года и я понимаю, что вся эта тема работает, если не забрасывать попытки. Тебе могут пророчить работу на заводе, но если есть желание, то и результаты будут соответствующие.
— Ага, можно и до собственного альбома дорасти. Осенью у тебя как раз должен выйти первый полноценный релиз. Каким он будет?
— До этого момента я воспринимал творчество как хобби и не относился к нему серьезно. Мне казалось прикольным, что все пошло в массы. Просто выпускал трек за треком и не думал об альбоме, даже не знал для чего он нужен. А сейчас все нормальные артисты записывают альбомы. При этом делал два трека в месяц, но знал, что могу больше. Я съездил на отдых и за два месяца — с 15 июня по 15 августа написал восемь новых треков. В альбоме их будет десять — два из них старые.
— В каком они жанре? Твоем фирменном?
— Нет, сейчас пошла такая волна — молодежь борется с насилием, старается развиваться и читать информацию про абьюз, эмоциональный интеллект и все в таком ключе. А в моих треках тематика пацанская. Ее любят ребята, живущие подобной романтикой. Это тоже будет в альбоме, но не совсем с криминальным подтекстом. Есть песни, которые можно отнести к новой школе, также одна песня под гитару. Я не хочу быть только рэп-исполнителем, а думаю пробовать себя в разных жанрах: регги, танцевальном, да во всех. Возможно рок или попса. Если поеду в страну, где афроамериканцы будут играть на бубенцах, и мне понравится музыка, сыграю и на них.
Выход альбома запланирован на начало осени — треки уже записаны, их досведут и доработают обложку.
— В альбоме есть фиты?
— У меня фитов вообще почти нет, потому что я не слушаю русских исполнителей. Они мне не интересны, я рос на музыке западных артистов. Можно попробовать совместку, но в рамках своего продвижения. Конечно, в России есть интересные музыканты, но они меня не особо вдохновляют. Мне уже столько раз предлагали сделать фит: не только местные, а музыканты со всей страны, но я даже толком не знаю, известны ли они.
— Но фит с Элвином Греем ты записал.
— А, да! Но я имел в виду русских исполнителей, а записаться с татарскими — без проблем. Я же различаю эти две аудитории. У Элвина Грея музыка для девочек-девушек, все в розовых тонах. Часть моих слушателей меня вообще не поняла: «Альберт, ты чего, ты с кем там записался?» А я им: «Ребят, успокойтесь, все нормально». Тут еще сказывается разница между татарскими и русскими поклонниками — для первых наш фит это просто нечто, а вторая пожелала, чтоб я скорее завязывал с такой фигней. Люди не поняли, хотя начинал-то я с треков на родном языке. Но потом осознал, что это потолок — дважды объехал Татарстан почти полностью, после чего написал русскую песню, так все и понеслось.
— То есть, если бы тебе татарские артисты предлагали вместе записаться, ты не отказался?
— Можно было бы поработать интереса ради, но я не хочу глубоко забираться в татарское творчество. Если со стороны местных артистов поступит предложение, я не откажусь, но сам инициативу проявлять не буду. У меня в основном русскоязычная аудитория — лучше потратить время на создание трека для нее, чем столько же усилий на запись татарской песни. Эффект на выходе будет разный, пусть не в обиду звучит.
— На российской хип-хоп сцене все больше девушек. Как тебе идея коллаборации с кем-то из них?
— Если у кого-то из них будут необычные вокал и подача, интересная фишка, то почему бы и нет. Необязательно только с рэп-исполнительницами — сейчас актуально, когда читает мужской голос, а припев отдан девочке. Я ставлю треки Ники Минаж, Lil’ Kim и музыкантов из новой школы. Могу послушать мужской хип-хоп, а потом переключиться на женский с его неповторимыми особенностями.
— Чего все-таки не хватает артистам местной эстрады, чтобы хоть немного повторить твой успех?
— Какой-то своей фишки. Все такое типичное в стиле «Мин сине яратам, то есть я тебя люблю» (поет, — прим. Enter) и баян. Я пришел на татарскую эстраду с пацанским рэпом, которого там раньше не было. Мне даже неудобно перед татарскими рэперами: они баттлы устраивали какие-то для продвижения, а тут вдруг появился я — парень с Нурмы за 105 километров от Казани. И татарские дискотеки просто разорвало, на них стало приходить столько народу. Люди привыкли слушать песни про любовь под определенные инструменты, а у меня все звучит по-другому. Наверно, на мое творчество сильный отпечаток наложили западные исполнители — я их столько лет ставлю и понимаю, как они делают музыку. Я был в шоке, когда гастролировал с татарскими треками и в зале набиралось по 300 человек.

— А во время гастролей по России? Ты недавно съездил в тур: какие были ожидания, совпали ли они с реальностью и как тебя принимали в разных городах?
— Тут я тоже был в шоке. Мы начали гастролировать или осуществлять свой план по завоеванию мира в том году. Я не ожидал, что у меня такая большая аудитория, столько людей меня слушают и подпевают. Они просили приехать еще раз, говорили «А лучше оставайся». Во время выступлений я у публики спрашиваю, знают ли они, откуда я, подкалываю: «Приехал к вам из Татарстана на джипе бронированном, хочу спеть на родном языке». Так в русских городах я исполнял татарские песни и их принимали как европейские, даже знали припевы. А они же ни слова не понимают на татарском, но слушают и танцуют. В Москве спел на родном, организаторы потом спросили, что это был за язык и сказали: «Круто». Здорово иметь возможность рассказывать всем о существовании татарского. Больше всего взрывает танцпол трек «Лайкнул мы сон?» Я уже планирую новый тур — 12 сентября, алла бирса, начнем.
— Ты еще хотел когда-нибудь сделать треки на английском. Начал пробовать или это в далекой перспективе?
— Это из-за моих западных кумиров. В детстве сестра привезла мне mp3 из Европы, я его заслушал, знал слова наизусть. У меня тогда возникло желание сделать что-то наподобие, да и сейчас оно есть. Это как с русскими треками — я подумал, надо просто попробовать. Почему бы не записаться на английском? Все в перспективе, я пока даже язык не знаю, а вот когда выучу… Наверное, выучу… Хотелось бы свободно на нем разговаривать, потом посмотреть, как зайдут англоязычные треки. Я вот вообще презирал русский рэп, хотя у меня и общение дома на русском, и мыслю на нем. Но все-таки попробовал записать трек и первый же «Мент на меня газует» выстрелил — а я его на районе сам сделал. Тогда понял, что русскоязычная аудитория массовее, а значит и охват и возможностей больше. Татары просят не забывать свои корни, и я о них тоже помню.
— Возможен такой вариант как с песней «Лайкнул мы сон?», когда у трека появились сразу две версии: сначала татарская, потом русская?
— Мне стремно за этот трек на самом деле, точнее за его перевод на русский. Я думал, будет такой же эффект, как после выхода татарского варианта. Моя ошибка в том, что я перевел его дословно и старался сделать татарское произношение — где-то специально поставил неправильное ударение. Получилось странно, я ее выложил, но теперь нигде не пою.
— Тебе предлагали сотрудничество ребята с лейбла Black Star. На каком вы сейчас этапе?
— Не совсем Black Star, а их компаньоны с лейбла. Я отказался после того, как прочитал условия контракта. И зачем мне это? Я сам пишу песни, и со временем приду к тем же результатам, но своими усилиями.
— А побаттлиться кто-нибудь предлагал? Этот формат все еще популярен.
— Есть рэперы с быстрыми флоу, читкой и те, кто сразу рифмует, но я не из них. Да и само явление рэп-баттлов мне не очень нравится, потому что там люди обсирают друг друга как могут, но в мире и так много злости. Они на этом хайпе хотят вывезти, но такое не про меня. В моем пацанском видении оскорблять родителей оппонента — неправильно. У меня вряд ли была бы сдержанная реакция, я мог и в драку полезть, если что-то про родных услышал. Предложения от ноунеймов о баттлах были, но я на них не реагирую. Не пошел бы и на баттл с известными исполнителями. Я больше уличный поэт с неспешным флоу, просто рассказываю свои душевные истории и вывожу на этом.
— Вот, кстати, почему они так заходят? Несмотря не разнообразие жанров, даже в самом хип-хопе, пацанский рэп стал очень популярным. И это тебе приписывают.
— Я сам не пойму, мне тоже интересно. Всегда спрашиваю у людей, где они услышали мою песню в первый раз. Отвечают: «Вот у друга», выясняю что им понравилось — «Слова?» — «Ну да» — «А музыка?» — «Музыка тоже». Кто-то говорит, что зацепило произношение, кому-то голос пришелся по душе, а кому-то сочетание того и другого, сам стиль.
— Бывают случаи, когда к тебе подходят пацаны с улиц и, скажем так, респектуют или наоборот?
— Обычно после концертов пацаны предлагают покататься, и я соглашаюсь. Почти в каждом городе мы куда-нибудь едем с местной компанией, а иногда я катаюсь с ними в одиночку. В Калининграде тусили с ребятами, они мне море показывали и были в шоке от того, что я спокойно со всеми общаюсь. Я же вырос среди пацанов и не могу позволить себе вещи вроде звездности. Хожу среди них, шашлычки жарю, они уговаривают присесть, а я говорю, что сам их сегодня обслуживаю. Они, конечно, очень удивляются. По итогу меняемся номерами, общаемся, зовем друг друга в гости — почему бы и нет? Лишние знакомства не помешают. Сегодня у меня пик популярности, а кто знает, что будет завтра, к чему жизнь приведет. Вот я сейчас всех здесь забуду, потом карьера пойдет на спад, и как я вернусь домой? У меня такая жизненная позиция.
— В твоих клипах много людей с оружием, а в треках ты много читаешь по этой теме — «за сто пятый двор стреляю в упор». Похоже на романтизацию криминального образа жизни, тебе не кажется?
— Ни в коем случае. Мне почему-то приписывают всю эту криминальную романтику, в комментариях в соцсетях причисляют к АУЕ (молодежная субкультура, которая идеализирует тюремный быт, — прим. Enter). Но, ребят, я здесь вообще ни при чем! Просто пишу тексты от третьего лица, не указываю в них, что так надо делать. Даже в треке «Мент на меня газует» ни к чему не призываю. Подобные вещи происходят в каждом районе, это факт — пацанов ловят, случаются всякие стычки — нормальное явление. Я замечаю такие моменты, и не знаю почему, но они меня вдохновляют — описываю, как парни убегают от ментов. Люди же не знают, что происходит, не видят эту сторону жизни, а я рассказываю о происходящем за ее сценой. Да, в треках есть жаргонные слова, потому что они направлены на определенную аудиторию. Я живу в районе и понимаю, о чем речь: дрался как простой пацан, бывали разные стычки. Сейчас в них не участвую — весь в творчестве, но каждый нормальный пацан через это прошел.
— Еще у тебя в треках много строчек, связанных с полицией: «ой мама-мама, мент на меня газует» или «опять эти менты, шухер убери». Сейчас из-за действий правоохранительных органов на митингах к ним очень негативное отношение. Что ты обо всем этом думаешь?
— Мне вообще без разницы, что творится — не люблю лезть в чужие дела, у меня своя жизнь и я иду по ней. Я смотрел видео с митингов, меня тоже не все устраивает, но эта тема не вдохновляет. Даже в ту сторону не смотрю, двигаюсь по своему направлению.

— Просто рэп отчасти считается остросоциальной музыкой, которая реагируют на происходящее в обществе, критикует государство…
— Я слышал, что в Госдуме говорили о запрете рэпа, но этого никогда не случится. Вся движуха будет происходить в подвалах, подземках, может просто называть ее начнут по-другому. По-любому люди придумают тысячу способов сохранить субкультуру. Как от нее можно отказаться, бред же? У меня своя версия, почему хотят ввести запрет: сейчас Запад диктует условия, а русские рэперы полностью копируют зарубежных, берут биты. Там сейчас популярны гей-парады и суициды. Поэтому у депутатов такое отношение — они увидели песни про суицид и решили ограничить творчество.
— А запреты концертов некоторых исполнителей кажутся тебе действенными?
— Люди будут их слушать, потому что запретный плод сладок. Им, наоборот, станет интересно, почему эти песни запретили, что в них такого. Государство само же провоцирует общественность, вызывает у нее любопытство — раздувает его, а потом жалуется на происходящее.
— Ты недавно снялся в фильме «Статус» и даже выпустил к нему саундтрек. Судя по трейлеру, это будет картина с криминальным уклоном: разборками, погонями и автоматами. Как ты туда попал?
— Весной этого года на меня вышли ребята и рассказали про свои фильмы — среди них были те, что я смотрел. Классная картина «Решала», например. Им нужны были мои треки из-за тематики ленты, и мы смогли договориться. Мне показалось, это круто, когда твои песни становятся саундтреками к фильмам. Там использованы три трека — «Статус», названный как фильм, стал основным. Эта песня попала в топы еще до выхода кино в прокат в январе следующего года. Значит, люди ее услышали и ждут ленту. Потом мне опять позвонили и предложили сняться в фильме, а это была моя мечта.
Я играю не бандита, а самого себя, именно Нурминского. Продюсеры специально прописали эту роль. У меня минут двадцать экранного времени, по сюжету я связан с главным героем — якобы мы знакомимся и он понимает, кто я такой. Там задействованы медийные личности — Птаха, например, и актеры из-за рубежа. Мне сказали, что картина будет идти в кинотеатрах по всей России. Сниматься в кино было не сложно, отчасти потому что я уже в школе играл в КВН, и сам по себе творческий человек. Я бы повторил, но если сценарий будет хороший, по моей теме, а не любовной.
— В кино ты уже снялся, также развиваешь свой бизнес — автосервис. В чем еще думаешь себя попробовать? Ты про танцы говорил как-то, например.
— Я люблю танцевать. В 2007 году у меня были компакт-диски с зарубежными клипами и танцами хип-хоп артистов. Не хвастаюсь, но когда на дискотеках все пацаны стояли, я уже мог показать какие-то модные движения. Мне нравится подвигаться во время езды в машине, к примеру. У меня нет стеснения и скромности в этом вопросе, скорее наоборот. В целом, пока не знаю, чем хотел бы заниматься — вот люблю руками что-то делать, придумал несколько приспособлений для дома. Креативность есть и умные идеи приходят, особенно если лень и хочется изобрести то, что облегчит жизнь. Но в любом случае, мое занятие было бы связано с творчеством.
— Ты, кстати, по-прежнему живешь в Нурме? Как-то говорил о планах переехать.
— Я перебрался в Казань в конце недели. Здесь находился, чтобы помочь маме: сейчас же самый разгар сезона — картошку пора выкапывать. Все мое детство прошло в родном селе, большую часть жизни я провел тут. Когда возвращаюсь сюда, работаю: у нас же семейный бизнес — автосервис. Вы написали, что выезжаете из Казани в десять утра, я постарался все успеть, устранить возникшие проблемы с водопроводом, переодеться.
Был интересный случай: приехал на работу в автосервис и вышел с ломом помогать укладывать асфальт. Мимо проезжала какая-то редакция с названием вроде «Татарстан дулкыннары», им надо было в Кукмор. Они увидели меня, тормознули и начали фоткать. Но работать — это же нормально. У меня нет мнения, что раз я артист, то картошку копать не буду. Люди сами придумывают музыкантам образ и ждут, что они будут ему соответствовать — звезды якобы не должны вспахивать грядки и ходить на обед в дешевые места. Я иногда захожу в «Добрую столовую» в Казани и там все удивляются, что я здесь делаю. Вот бы они просто не смотрели на то, как я в огороде копаюсь, курочек кормлю и занимаюсь другими домашними делами. Надо постоянно за собой следить — хотя бы галоши не надевать, люди же увидят. Я переехал в Казань, чтобы не думать о таких моментах и нормально заниматься творчеством.
— Тебя приглашали и в Москву, но ты говорил, что пока не готов к переезду. Что должно произойти, чтобы тебе захотелось уехать из Татарстана насовсем?
— Я уже захотел переехать в Москву. Пока снимался в фильме, жил там неделю и мне понравился темп города — сам не люблю сидеть на месте, нужно движение. И в плане продвижения в столице больше возможностей. Например, я познакомился с Птахой, через него еще с ребятами из конторы Black Star, у кого мы арендовали «гелики». Они зовут в Москву, говорят, чтоб переезжал, и мне хочется остаться, но понимаю — надо домой. У меня была возможность перебраться туда, я поговорил со взрослыми и они посоветовали пока осесть в Казани. Здесь еще мама одна остается и это тоже накладывает отпечаток — я же не могу всех забыть и просто уехать.
В Москве я и ощущаю себя по-другому — прямо как Нурминский, а тут я просто Альберт — для кого-то сосед из такого-то дома. В столице на меня смотрят как на человека, уже достигшего определенного уровня, а не как на пацана-певца. А здесь отношение — да что ты там поешь, иди огород копай. В сельской местности не петь, а работать надо, а в Москве ценится творчество. Я сижу здесь и понимаю, время идет, мне 25 лет и это тот самый возраст для проб и экспериментов, но есть еще отношения с родственниками и такие моменты разрывают на части.
Еще и на работе в автосервисе свои обязательства — привезти то да се. Я считаюсь директором и без меня многие вопросы не решаются, даже если делегирую полномочия. Вот недавно моим рабочим нужен был стул, я поехал его искать, спрашиваю у них: «Да вы сами купить не можете что ли?», а они не могли выбрать. На мойке что-то ломается и мне звонят: «Альберт, надо привезти детали!» Еще раз к слову о стереотипах про артистов — люди думают, что ты звезда и должен быть солидным. А я выхожу из автосервиса чумазый, хожу по центру, стулья выбираю и перетаскиваю. Вот такая у меня жизнь интересная.
— 30 августа ты выступишь на мультиформатном фестивале Tat Cult Fest. Там будут исполнители совершенно разных форматов, но все так или иначе связанные с татарской культурой. Есть ли песни хедлайнеров события в твоем плейлисте?
— Я знаю трек «Татарин» группы «Аигел», они же вроде приезжают? Когда меня позвали, я еще удивлялся — выступать в Кремле? Я? Со своим пацанским рэпом? Вчера проезжал в районе Аметьево, а там баннеры фестиваля везде — посмеялся, говорю: «Смотрите, я там есть». Люди говорят, что ждут — посмотрим, как это зайдет.
После интервью идем искать локацию для фотосессии. Пока бродим по парку, с Альбертом несколько раз здороваются местные, он отвечает тем же. Уговариваем сделать пару фото на родной улице в Нурме, рядом с домом. На центральной дороге в маленьком селе — новый асфальт, но на боковых улочках все еще камни и щебень. Машина останавливается рядом с зеленым забором, за которым деревья и дом — совсем небольшой, с остроконечной крышей. Альберт отвозит нас к табличке с названием села перед въездом. Неподалеку пасутся коровы, просим его попозировать на фоне. Он смеется и отмахивается: «Ребят, да вы что, только не с ними». Дальше оказываемся у последней точки — там и прощаемся. Вручаем Альберту кучтэнэч (гостинец, — прим. Enter) как принято у татар, он благодарит и с ходу стартует — позади остается указатель «Казань 105 км».
Фото: Кирилл Михайлов
Совет Европы опубликовал результаты исследования тюремных систем 47 стран. Согласно данным, Россия является лидером среди европейских стран по количеству заключенных — в 2018 году их насчитывалось 602 176 человек. Первые строчки она занимает в следующих позициях: по уровню смертности среди заключенных и по самому большому бюджету на пенитенциарную систему. На поддержание тюрем из российского бюджета ежегодно тратится 3,9 миллиарда евро. При этом на содержание одного заключенного в день тратится всего 2,5 евро, в то время как в Европе — 66,5 евро.
Автор Enter Алсу Гусманова встретилась с бывшим главным психологом УФСИН по Татарстану Владимиром Рубашным и узнала, как устроена психологическая поддержка в казанских изоляторах, кто может изменить систему и почему в местах лишения свободы так распространены пытки.

Договорняки с администрацией и проблемы заключенных
Я поступил на службу в 1991 году. Сначала был в должности инспектора по работе со «спецконтингентом» (нарушители правопорядка, мелкие преступники, — прим. Владимира Рубашного). Через пару лет у нас стали появляться психологи — без специального образования, потому что их никто не обучал. Пройти переподготовку и получить азы психологии можно было только на курсах повышения квалификации при Казанском государственном университете. До этого в уголовно-исполнительной системе психологов привлекали в основном для работы с несовершеннолетними.
Чтобы попасть к психологу, «взрослому» заключенному нужно написать заявление о желании прийти на прием, дождаться, когда сотрудники колонии заберут у него бумажку, а психолог назначит часы посещения. Авторитетам, как правило, попасть на прием проще — у них есть «договорняки» с администрацией тюрьмы.
В большинстве случаев тем, кто обращаются к психологам, нужна простая отдушина — как они говорят, «свободные уши»: кто-то хочет поговорить о жизни, кто-то приходит с реальными проблемами, чаще всего с семейными, жена разводится или трудности с детьми.
Еще одна распространенная проблема, с которой арестант обращается к психологу — адаптация: заключенному сложно привыкнуть к тому, что он больше не имеет возможности принимать решения самостоятельно или права на свободу перемещений. В таких случаях у него может возникнуть депрессивное суицидальное настроение, с которым практически невозможно справиться самостоятельно, и нужно получить помощь медиков.
Существует и другая проблема — невозможность никому довериться. Все друг на друга «постукивают» и периодически «сдают» — как со стороны осужденных администрации, так и сокамерников. Определенная каста заключенных работает на оперативно-режимный состав, сливает информацию в подходящий для них момент — обладая «нужными знаниями», любой может манипулировать человеком.
«Сделал — запиши, не сделал — запиши два раза»
Когда я работал, в казанском первом изоляторе (ФКУ Следственный изолятор №1 — прим. Enter) только несовершеннолетних содержалось почти 250 человек, а это целая колония. На 150 осужденных у нас приходился всего один психолог. Сейчас психологов стало чуть больше, но их все равно не хватает. Обычно в колонии работают три сотрудника: начальник психологической лаборатории, старший психолог и тот, кто обслуживает всю зону, а это не только осужденные, но и персонал, с которыми нужно беседовать при приеме на службу и сопровождать их во время трудовой деятельности.
Психологи с первого дня встречают осужденных, наблюдают за ними в карантине десять дней («карантин» — первая камера, в которой оказывается человек), составляют программу реабилитации и психологической коррекции, отслеживают ее соблюдение, выявляют группы риска и так далее. Также в обязанности входит написание характеристики для условно-досрочно освобожденных. Всю бумажную рутину при этом нужно разложить по папочкам.
Наша основная работа, которую сложно выполнять из-за кипы бумажных дел, — это прямой контакт с заключенными. Если не заполнить бумажки и не показать их проверяющим инстанциям, будет выглядеть, будто работа не проведена. Из категории тех же бесполезных задач — нужно выполнять план по количеству индивидуальных и групповых психологических мероприятий. Происходит это так: рассаживают целую аудиторию в актовом зале, психолог что-то там трет, зато галочка где надо поставлена. Как говорят в уголовно-исполнительной системе: «Сделал — запиши, не сделал — запиши два раза». Бюрократия отнимает уйму времени и главная работа не выполняется.

Порядки на зоне и выгодные манипуляции
Специфика тюрем в России — предоставление заключенных самим себе. Администрация не вовлечена не то что в исправительный процесс, а вообще ни во что не вовлечена. Их главная задача — не допустить чрезвычайных происшествий, связанных с побегами, массовыми беспорядками и отказами от работы.
При этом арестанты могут манипулировать администрацией: например, те, кто задействован в работе с плавильной печью (если остановится работа плавильной печи, то металл и печь придется взрывать для разборки), часто получают послабления.
Чтобы такие факторы меньше влияли на жизнедеятельность колонии, администрация отбирает лояльно настроенную группу сидящих. Их называют «красные», и они идут на поводу у местного начальства. Эти люди могут зависеть от нее по разным причинам — о них знают неблаговидную информацию и шантажируют тем, что могут ее слить, к примеру. Либо человек осужден по определенной статье вроде изнасилования детей и не хочет, чтобы об этом узнали остальные. Он думает, к нему будут жестоко относиться в местах лишения свободы, но это совершенно не так.
«Если он убил или изнасиловал простых людей вроде нас с вами, вообще не факт, что ему на зоне за это предъявят»
Если он убил или изнасиловал простых людей, вроде нас с вами, вообще не факт, что ему на зоне за это предъявят. И как показывает практика, такие люди быстрее выходят по условно-досрочному освобождению. Они тесно взаимодействуют с администрацией, так как боятся санкций со стороны местного контингента и ведут себя тише воды, ниже травы. Прокуратура потом говорит, конечно: «Надо ли его досрочно выпускать, ведь у него статья нехорошая?», — а администрация пишет замечательную характеристику.
Потом такие люди выходят и совершают аналогичные преступления сексуальной направленности, и эта проблема в нашей стране также никак не решается. В Германии, например, есть специализированные учреждения для реабилитации осужденных за преступления, связанные с изнасилованием. Их сотрудники нацелены на психологическую реабилитацию заключенных. У нас ни о каком специфическом подходе и изменении поведения говорить не приходится. Заключенные отсидели свои положенные семь-восемь лет и выходят на свободу с точно такими же установками, целями и смыслом существования.

Воровской этикет и тюремная иерархия
В зонах существует иерархия, и в ней существует свое распределение ролей: альфы, беты и изгои. Такая социальная стратификация необходима для хорошего существования и функционирования тюрьмы. Если заключенными не занимается администрация, они наводят порядок внутри своей группы сами. Здесь нужно учитывать фактор воровской тюремной иерархии, сформированной еще при царском режиме.
Например, воры в законе не берут оружие в руки, не женятся, не употребляют наркотики, но «отсиживаются» в тюрьме. Они поднимаются за счет интеллекта и, как они говорят, умения «разранцевать», то есть разрулить ситуацию. В итоге занимают лидирующие позиции среди своих. Существует и другая категория, которая с подачи лидеров наказывает провинившихся и неугодных — вот у них кровь на руках. Есть те, кто обеспечивает остальных — ворует и отдает в общак. В тюрьме каждый знает свое место. Бывают и «середнячки» — случайные воры, обычные мужики, которые на заводе украли что-нибудь.
Такое разделение до сих пор существует, но в более сглаженной форме. В 90-е происходили очень жесткие пересмотры всех понятий: люди были больше ориентированы не на принципы, а на деньги — даже в тюрьмах осужденные голодали. Братва машинами загоняла им еду, чтобы прокормить, а сотрудники тюрем не получали деньги. Такая дичь кругом была, зато никто ни к кому не лез. Но воры в законе никуда не делись, они продолжают формировать и регулировать понятия и отношения между собой. Как пример, перестрелка на Рочдельской улице в Москве (вооруженный конфликт между двумя группами лиц, произошедший в Москве вечером 14 декабря 2015 года на Рочдельской улице, закончившийся двойным убийством и резонансным уголовным процессом — прим. Enter).
«Красные», «черные» и «опущенные»
Зоны делятся на «черные» и «красные». В первой приоритет власти принадлежит осужденным — в них меньше агрессии. Они самоорганизуются таким образом, чтобы не допустить излишнего насилия и притеснения людей просто так. Но и там не обходится без категории отверженных и «опущенных» в силу разных обстоятельств. Среди «опущенных» тоже есть своя иерархия: кого-то полицейские насильно обоссали, выбивая показания, кому-то провели по губам членом — это самые распространенные способы «опустить» заключенного.
Бывают ситуации, когда человек украл что-то у другого и тогда он становится «крысой» — к этой категории сидящих тоже разное отношение. Среди «опущенных» много тех, над кем совершали преступления сексуальной направленности. Информация о таких людях за три секунды пробивается и распространяется по зонам.
«Они живут по понятиям администрации и с подачи начальства устраивают избиения и пытки»
Есть «красные» зоны с так называемыми «красными» помощниками администрации. Они — самое негативное звено в колониях, потому что формируют агрессию внутри и могут наказывать по своей воле, невзирая даже на мнение авторитетного осужденного. Они живут по понятиям администрации и с подачи начальства устраивают избиения и пытки. Часто среди «черных» и «красных» случаются конфликты вплоть до драк и избиений. «Красных» не так много — человек тридцать, они всегда работают бригадирами. Как правило, утренний обход в зоне выглядит так: приходит начальник отряда, к нему выстраиваются бригадиры и рассказывают, что происходило ночью, когда он отсутствовал.
На протяжении пяти лет мы проводили социально-психологическое исследование в тюрьмах Татарстана, исследовали уровень доверия между администрацией и осужденными и между самими заключенными. В «красных» зонах, в отличие от «черных», прослеживалось настороженное отношение к начальству и напряжение между заключенными, даже не относящимся к «красным». В «черных» зонах не будут бунтовать просто так, а в «красных» люди могут себя ранить, лишь бы их увезли отсюда подальше — на обследование или в другое место.
Сейчас «красные» помощники администрации, официально разрешенные в 90-е, запрещены. От этого статуса отказались, но в тюрьмах нашли выход и создали новые секции с теми же функциями стукачества и наказания. Теперь они стали «помощниками пожарной дружины» и должны якобы обеспечивать безопасность до того, как пожарные успеют приехать и потушить пожар. У «секций» бывают и другие названия, но функции остаются прежними — подавлять несогласных, пытать, избивать и прочее.
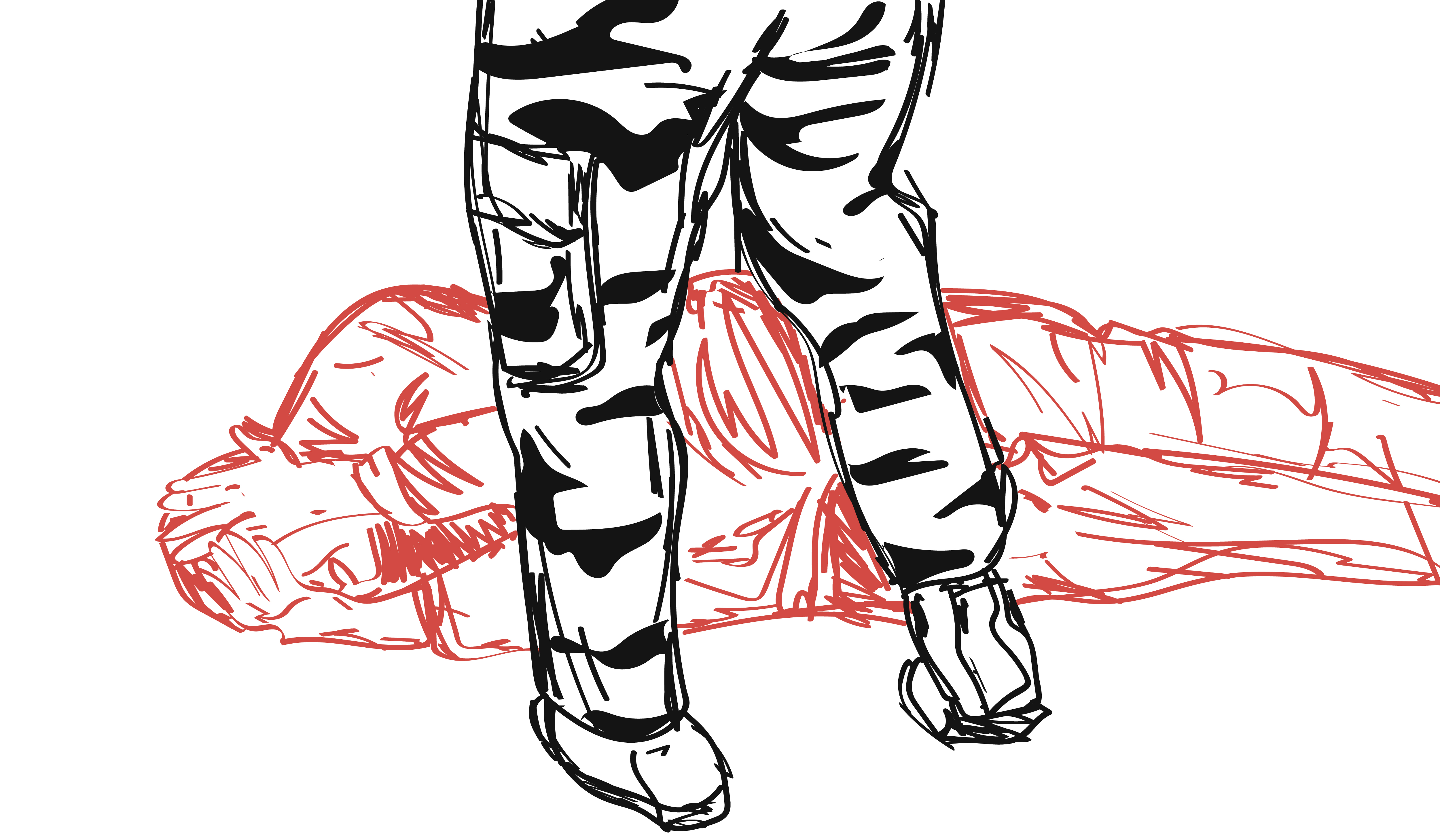
Ошибки системы и профессиональное выгорание
Пытки в тюрьмах действительно есть. Это латентная проблема — сложно ее обнаружить, если ты внутри. Предположим, тебя закрыли в карцере и ты не можешь ни с кем общаться, а что там с тобой делают — никто не знает. И доказать ничего невозможно — побои сойдут через три дня, а если не сойдут, придут адвокаты и скажут: «Ты сам бился, у нас имеется запись». Никакой записи, конечно, нет, ее не найдут, так как «у нас диск на три дня только записывает, аппаратура сломалась, молния ударила».
В тюрьме все находятся в особом эмоциональном состоянии, в том числе и администрация. Из-за специфики своей деятельности происходят и психологические изменения, и профессиональное выгорание. У осужденных вырабатывается защитная реакция «я не такой, жизнь такая, я ни в чем не виноват, я стал таким благодаря родителям и нашей стране». Каждый ищет внешний обвиняющий фактор — он же действует и в отношении представителей полиции и администрации. Они думают: «эти преступники должны вести себя тихо-мирно, не шевелиться, преступление же совершили, а осужденные начинают права качать, писать письма в прокуратуру».
Естественно, сотрудники зоны начинают бороться с заключенными, которые заявляют что-то о своих правах, потому что если придет ответ от надзирающего органа, то начальнику территориального управления такое не понравится. На совещании он постучит пальчиком по столу и скажет: «Принимайте меры». А какие им принимать меры? Тут начинается столкновение двух интересов, и администрация ищет способы угомонить человека.
Способов это сделать за длительное существование уголовно-исполнительной системы в нашей стране они знают много, начиная от элементарных побоев и притеснений, вроде карцера, до травли с помощью «красных» — когда бунтовщика бьют, насилуют и снимают на камеру. Могут еще отправить в психиатрическое отделение и там заколоть лекарствами.
«У него нет личных садистских наклонностей, для него избиения — рутина. Представим, например, мясника»
У сотрудников уголовно-исполнительной системы неоднократно спрашивают, почему на службу принимают «нелюдей, которые творят зверства». Но это редкое явление — на самом деле, когда смотришь психопрофиль после прохождения ими тестирования, все в порядке. Это среда формирует подобное отношение, то есть человек вынужден так себя вести, иначе система его выдавит. У него нет личных садистских наклонностей, для него избиения — рутина. Представим, например, мясника, который приходит в цех и режет мясо, кромсает его на кусочки:он же не плачет, когда корову барашка или теленка режет. У него есть определенные профессиональные установки.
Так и с сотрудниками зон: домой возвращается нормальный человек, любящий муж, сын, хороший сосед и семьянин, на работе выполняет профобязанности и пользуется полномочиями, данными ему государством. Он же весь в орлах, а они — символ власти в России! Мало того, начальство может ему прямым текстом ставить такие задачи. Было много ситуаций, когда начальник говорит: «Угомоните вон того», — и приказ выполняется. И будет выполняться до тех пор, пока двух-трех человек не убьют. Потом всех судят, если, конечно, все вскрывается. Это не садизм, а стереотип и установки, заданные системой.
Изменить судебную или уголовно-исполнительную систему невозможно, потому что нереально поменять в стране только одну сферу — такие попытки уже были. Можно перестать называть милиционеров милиционерами и обращаться к ним «полицейские» или провести псевдоаттестацию, но ничего не изменится. Задачи у системы остались те же: подавление и наказание.
Периодически власть запрашивать о причинах рецидивизма у соответствующих структур, но ответ лежит на поверхности — никто ничего не делает, чтобы его снизить. Человек выходит из тюрьмы и возвращается в ту же среду — не может устроиться на работу и оформить документы по разным причинам. Никто его никуда не берет, нет никакой реабилитации — возврат единожды заключенного обратно в колонию почти очевиден.
Иллюстрации: Саша Спи
