Автор: Луиза Низамова
13 октября в «Смене» открылась выставка «Солнцем» — дуэт художников Зухры Салаховой и Артура Голякова. Она открывает каскад мероприятий, подготовленных к десятилетию Центра современной культуры.
Enter побывал на выставке и выяснил, какая идея лежит в ее основе, как Гоголь связан с работами авторов, какой ракурс лучше подходит для рассматривания выставки и оправданы ли дихотомии и дуальности.

На фото художники Зухра Салахова и Артур Голяков

При чем тут солнце?
Последние два года «Смена» уделяет много внимания локальному искусству. Все началось с групповой выставки «Кажется, будет выставка в Казани», которая задала новое направление деятельности институции. Если раньше проекты местных авторов возникали спорадически, то после они стали постоянной составляющей выставочной политики «Смены». Выставка «Солнцем» продолжает это направление.
Отправной точкой работы над ней стали две постановки: балет «Весна священная» Игоря Стравинского и опера «Победа над Солнцем» Михаила Матюшина. Художники задавались вопросом, оправдана ли идея о том, что две конфликтующие стороны могут существовать только как взаимоисключающие. Результатом стала инсталляция во весь зал, собранная из работ разных размеров, материалов и техник, включая вышивку, скульптуру, объекты из пенополистирола и живопись.
Раньше я не сопоставлял «Весну священную» и «Победу над Солнцем». Оказалось, премьера обеих состоялась в 1913 году. Один год, но разная режиссура: в первом случае Николай Рерих, в другом — Казимир Малевич. Это очень важные вещи для искусства, связанные с историей нашей страны, но двигаются они в абсолютно разных направлениях: в «Весне» описываются обряды и человеческое жертвоприношение, а в «Победе» воспеваются технологии. Одни стремятся в дохристианское прошлое, а другие устремлены в будущее.


Художники начали это обсуждать и хотели создать искусственное противопоставление двух векторов, но поняли, что нельзя назвать произведения полностью противоположными. В этих постановках можно вычленить множество различных тем: отношения Запада и Востока, вопросы западников и славянофилов, прошлого и будущего. В то же время четкая логика в постановках не прослеживается. Позиция и взгляды по одним и тем же вопросам все время меняются, но за счет таких противопоставлений можно проследить другие процессы. Выставка — отчасти про конфликт, который проявляется на разных уровнях.
Почти все работы родились из одного смыслового облака. Изначально мое отношение к идее выставки было несколько проще: она — про разное положение человека в мире и его взаимодействие во вселенском пространстве. Я вспомнила, что у нас был спор о толстовцах, в котором я топила за жизнь без насилия. Но в ходе долгого разговора мы пришли к выводу, что невозможно жить, не будучи насильственной единицей.


Лучший ракурс выставки
Принцип устройства выставки авторы сравнивают со сценографией театральной постановки. На выставке «Солнцем» Зухра Салахова выступает в необычном формате: здесь редко можно встретить вышивку, которая у зрителя ассоциируется с художницей. Вместо камерных работ из нитей она обращается к ткани и уверенно чувствует себя в крупных объектах, часть которых сшила на швейной машине. Работы Зухры Салаховой изначально задумывались объемными, а Артура Голякова — плоскими. Первые словно становятся актерами, а вторые — декорациями или постаментами для них. Зухра Салахова назвала свои новые объекты «шкурами», тогда как Артур Голяков создал решетки или клетки, из которых животные то ли вырвались, то ли наоборот — стали объектом нападения животных. Взаимодействие двух художников может принимать форму интервенции одного в пространство другого, и тогда граница между плоским и объемным становится нечеткой. Подобно сцене, выставку невозможно осмотреть со всех сторон.
То, что зритель видит на выставке, имитирует танцы «Весны священной». Так как мы отсылаемся к театральным постановкам, то хотели, чтобы основной обзор на выставку был от входа. В нашей голове она выглядела плоской: зритель заходит, и перед ним появляется сцена. Если смотреть издалека, сложится впечатление цельной картины, в которую ты можешь заходить и рассматривать или оставаться у двери и воспринимать увиденное как плоское изображение. Если ты проходишь вглубь и погружаешься в детали, то как бы увеличиваешь картинку на экране.
Если происходящее на «сцене» напоминает «Весну священную», то стена с решеткой в конце зала — о черном заднике в «Победе над Солнцем», из которого впоследствии родился «Черный супрематический квадрат» Малевича. Подобно ему, решетка становится границей видимого для зрителя, экраном. Зритель «Солнцем» будет часто сталкиваться с понятием экранной плоскости: например, зеленый пол — отсылка к хромакею и весне одновременно. По словам Зухры Салаховой, он похож на траву, но не природного происхождения.
Большинство зрителей выставки увидят ее только на экране телефона или компьютера. Возвращаясь к обсуждению существующих противопоставлений, я считаю, что нет никакого «онлайн» и «офлайн». Достать телефон, поставить лайк или написать сообщение стало такой же обыденностью, как разговор. Неправильно говорить, что виртуальный опыт переносит меня в какую-то [другую реальность или] «матрицу». Такое противопоставление, на мой взгляд, абсолютно неверно.


Решетки Артура Голякова
Один из уровней конфликта проекта проявляется через противопоставление форм: у Зухры Салаховой это, как правило, мягкость и органика, а Артур Голяков берет за основу жесткую решетку. Она — рамка, упорядоченная структура, «форма, повсеместная для искусства нашего века», через которую художники-модернисты утверждали автономию искусства, противопоставляя ее природе.
Структура решетки в основе работ Голякова ассоциирована и с понятием живописи. Она неразрывно связана с пространством по обе стороны от нее. Картина — это то, во что мы всегда упираемся взглядом. По словам художника, решетки — также отсылки к математике: матрица — просто очередной слой, за которым может быть еще один.


«Живой» и «мертвый» языки Зухры Салаховой
В своей практике Зухра Салахова часто выбирает сюжеты из древности. Для «Солнцем» она создала оммаж к эскизу декорации и костюмов Рериха к «Весне священной». В оммаже Зухра реализует два художественных языка, «живой» и «мертвый». Значительную часть объектов можно увидеть распластанными на полу.
Мне нравится, что в картине Рериха люди набросили на себя шкуры, словно образы. На выставке, как и на картине, я показываю не медведей и баранов самих по себе, а именно шкуры, потому что мне важно представить их в виде образов.
Мертвый язык возникает, когда человек думает, что в чем-то разобрался, и делает из этого удобоперевариваемый продукт. Живой язык — более интуитивный, живописный. Голубятня — олицетворение живого языка, а психиатрическая больница, вывернутая наизнанку, — мертвого. Но на самом деле это разделение условное, и один язык может переходить в другой. Невозможно однозначно сказать, на каком из языков говорят медведи: идеально стеганые квадратики указывают на мертвый язык, в то же время могут быть вывернутыми наизнанку — это живой язык. При этом и мертвые, и живые проходят одинаковый путь: на это указывает одинаковый процесс создания объектов — стежка.
Сколько работ можно увидеть на выставке?
В пресс-релизе «Солнцем» описана как тотальная инсталляция. По определению автора термина Ильи Кабакова, она требует полного пере- и достраивания пространства, включая стены и потолок, или создания пространства внутри пространства, чего на выставке в «Смене» не увидеть. Голяков называет использование термина ограничением языка и объясняет, что получившаяся форма выставки позволяет ему исследовать границы понятий. В частности, как очертить, где начинается и заканчивается произведение искусства.
Когда зритель входит в зал, он видит большую работу, которая складывается из двух работ — от каждого автора по одной. В свою очередь, они делятся еще на множество: например, стенка сама по себе включает еще две вещи. Когда же работа Зухры Салаховой лежит на решетке Артура Голякова, из двух произведений получается нечто третье.
Авторы ставят вопрос, что в данном случае считать произведением. Формально каждое из произведений, в том числе решетки, имеет название. Все дробится, разбивается и собирается во все, что можно. По словам Артура, те же решетки после выставки, вероятно, превратятся в запчасти для будущих работ.
На выставке нет поясняющих текстов — это отвечает идее Голякова о том, что художник должен стремиться к усложнению. Не столь важно, думали ли создатели «Весны священной» о «Победе над Солнцем» — важнее перестать упрощать вещи, которые мы воспринимаем как данность.
Наша основная задача — сообщить, что художник должен бороться с банальными вещами, и на основе сопоставления рассмотреть конфликт. Дихотомии и дуальности носят условный характер и описывают только одну узкую сферу, что является упрощением. Это упрощения мы и исследовали в выставке.
Мир не черно-белый и не цветной — он настолько сложный, что не совсем понятно, как выстроить мыслительный критический аппарат, чтобы его воспринимать. Важно об этом помнить.
Автор: Луиза Низамова
Фото: Даниил Шведов для ЦСК «Смена»
В рубрике «Артгид» редакция исследует искусство региона, рассказывает о местных художественных процессах, их героях и художественных стратегиях. В этот раз героем рубрики стал художник Рамин Нафиков. Enter встретился с Рамином на его недавно открывшейся выставке «Земля Африки», чтобы поговорить о постигнутой красоте, художественной среде Латвии, идеальной выставке и сходстве искусства и музыки.
Художник Рамин Нафиков родился в Казани в 1967 году. Окончил Казанское художественное училище им. Фешина, а затем перебрался в Ригу учиться в Латвийской Академии художеств. Закончив обучение там, с конца 1990-х стал работать в двух городах параллельно — в Казани и Риге. Используя язык абстрактной живописи, центральным объектом в своем творчестве называет цвет и работу с цветовыми сочетаниями и соотношениями. На сегодня Рамин Нафиков — плодотворный художник, участник нескольких десятков персональных и групповых выставок в России, Латвии, Чехии, Италии, Австрии, Дании и Сенегале.

«Главное — испачкать холст»
— Когда у вас появилась мысль быть художником?
— Она была всегда. Мой папа художник, и я не помню, чтобы мечтал стать кем-то другим. Он говорил, что в трехлетнем возрасте я мог сидеть рисовать два-три часа, не поднимая головы — нехарактерная для такого возраста усидчивость. Он хвалил меня, и это подстегивало.
— Как начинается ваш день? Вы пишете ежедневно?
— По-разному, но хотелось бы больше писать. Помимо живописи, есть много бытовых, организационных вопросов. С утра писать не получается — по крайней мере, раньше так было: я был «совой» и чувства просыпались не раньше полудня. В этом и состоит график — работаешь, когда лучше чувствуешь и когда открыт. Наиболее открытое эмоциональное состояние у меня с 23:00. С утра я более скептичен и дожидаюсь, пока откроюсь.
Раньше самое продуктивное время было вечером, но надо проснуться достаточно поздно, чтобы не уснуть. Хотя писать лучше при естественном дневном освещении — картины начинают «играть». Когда включаешь свет, нужно время, чтобы глаз перестроился.
— Вам одинаково хорошо работается в разных местах?
— Мне всегда нужно привыкнуть к месту. При перемещении на полноценное вхождение в работу уходит два месяца. И это два месяца работы, а не просто адаптации. Поэтому я всегда отказываюсь от приглашений в резиденции на две-три недели. В таких условиях нереально успеть — если только исполнить заготовку.
— Какой самый любимый момент в вашей работе художника?
— Начало работы над новой картиной. Как говорит один мой друг-художник: «Главное — испачкать холст». В процессе возникает весь спектр эмоций, даже отчаяние и гнев на самого себя. Но все равно это большое удовлетворение от процесса. Я даже не знаю, чего ищу — картина сама подсказывает.
— Я читала, вы довольно долго работаете над одной вещью. Бывает, когда работаете одновременно над несколькими?
— Обычно нет. Параллельность может быть, когда уже не знаешь, что делать с работой. Она плохая, тебя не устраивает и ставит в тупик — тогда можешь переключиться. А когда процесс идет, я работаю только над одной картиной. Днями сижу, смотрю, как идиот, и не понимаю, что и как писать дальше. Дожидаюсь момента, когда пойму, отворачиваюсь, отвлекаюсь… Да, это долгий процесс — видимо, наращивается эмоция, энергия, и за один раз ее не выдать.
Пикассо писал за один раз, но это глобальный недостижимый талант. А мне нужно время. Я только урывками, вскользь вижу и чувствую, а потом ощущение пропадает. Пишешь холст, а на следующий день уже смотришь — нет, нехорошо. Долго идешь к тому, что картину можно оставить такой, какая она есть в данный момент. Я часто снимаю процесс на фотоаппарат, рассматриваю ранние снимки картины и иногда думаю: «Зачем закрасил здесь? Было же лучше».
Сам процесс и есть удовольствие от написания картин. Когда твои действия происходят в полную силу, когда творишь наотмашь. Там для тебя и трагедия, если не получается, и радость, когда получается.
— Некоторые художники любят посещать публичные мероприятия. А вы — какой?
— Как сейчас говорят, я интроверт. Мне лучше с самим собой: там, внутри, все гораздо интереснее.
— Внешне кажется наоборот.
— Мне интересно говорить, чем я занят. Стихи рассказывать я не смогу, да и песню спеть тоже…
— Вы преподаете на курсе живописи в Belova Art Gallery. Что вы хотите дать ученикам?
— Я хочу научить их владеть пространством холста, быть раскованными в своем мышлении. Смотрю, у кого какие склонности и таланты, и пытаюсь с каждым индивидуально развить личные особенности.
— Из казанских художников вам кто-то нравится?
— Много кто. Недавно увидел в галерее художника Silver (Артем Сильвестров — ), потом уже познакомились лично. Он чувствует цвет. Был еще Альберт Шинибаев, но когда все это началось (имеется в виду СВО, — прим. Enter), он уже уехал. Боюсь продолжать список — вдруг кого-то не назову, и человек обидится.

«Музыка — такая же абстрактная вещь, как и живопись»
— На днях в Belova Art Gallery открылась ваша выставка «Земля Африки». Расскажите, как она складывалась? Как получилось, что появилось слово «Африка»?
— Слово появилось незадолго до самой выставки. Первым было предложение ее сделать, затем я начал думать о стенах и интерьере галереи. Решил работать над колористически легкими, светлыми картинами. На тот момент мне были интересны два цветовых отношения в живописи — белый с розовым.
Началось все с этой вещи (показывает на картину на левой стене в первом зале, — прим. Enter), а потом сам собой нарисовался жираф и потянул тему. У меня давно было желание сделать скульптуру жирафа — мне очень понравилась стилизация африканских скульптур и увиденное засело в памяти. Показалось, сейчас как раз то время, когда к одной из моих картин нужен объект. Появилась мысль сделать что-то узкое, длинное — как Африка, которая тянется вверх, хотя должна, наоборот, прятаться от солнца. Я путешествовал туда в прошлом году, и название выставки показалось красивым, хотя никаких «африканских» задач я не решал. Название — это просто поэзия, как и сама живопись.
Изначально я думал повесить по одной картине в зал и поставить скульптурные объекты. Планировал сделать больше скульптур, но не успел. Подавляющее большинство работ ранее не выставлялись — чаще всего они просто не подходили к предыдущим выставкам. В экспозиции есть даже диптих из холстов 2023 и 2010 года. Тут исходил чисто из пластики: нужно добавить крупное пятно, мелкое пятно, цветовое пятно, черное пятно.. Потом оказалось, что у меня есть подходящие к «Африке» стекла.
— На что вы обращаете внимание в путешествиях?
— В поездках ищешь восторг. А еще приятно просто походить по городу, посмотреть на красивую архитектуру, присесть отдохнуть в красивом месте…
Мне интересны выставки современного искусства. Хотя и старые мастера тоже, не отрицаю, интересны. Выставки Пикассо нельзя пропускать нигде и никогда. Многие десятилетия он был для меня учителем, его выразительность толкала вперед. Потом Миро, Матисс и Сезанн. Кубизм пошел от Сезанна.
— Впечатления от внешнего мира становятся материалом для картин?
— Впечатления от картин других художников — становятся. Или какой-то цвет.
— На вашей выставке неплотная развеска. Это как-то связано с тем, что каждая из работ слишком мощная и самодостаточная и требует собственного пространства?
— Да, они очень активные, и если размещать их близко, то картины перебивают друг друга и перестают быть видимыми. Поэтому я хотел вешать по одной в зал. Сейчас задумался: возможно, так и стоило сделать. Но мне ничего не мешает убрать часть холстов в процессе выставки.
Однажды я делал выставку в Союзе художников РТ еще до того, как он приобрел облик нынешнего ГСИ. В зале — океан света и воздуха, огромный потолок. На этом фоне картины, которые в мастерской казались цветными, стали просто небольшими свинцовыми пятнами. Чтобы в таком интерьере картина выглядела цветной, она должна быть большой, написанной чистым цветом и большими цветовыми соотношениями. Хотя в мастерской подобное будет выглядеть очень скромно.
— У вас были «идеальные» выставки?
— Была. Мне предложили выставиться буквально на один день в мотосалоне. Интерьер был такой, что я захотел провести выставку именно там и сделал это для себя. Перетаскивание работ, подготовка заняли минимум неделю — и все ради одного вечера. Мне очень понравилось, как все вышло, и жалко, что это было на один день. Я показал там картины, про которые, работая в мастерской, предполагал, что в них должны заиграть конкретные вещи, звучание цветов. И в том интерьере все это заиграло, запело.
— Мне самой вспоминается часовня одного из самых известных представителей абстрактного экспрессионизма, Марка Ротко — кажется, для него эта выставка была идеальной. Но я хотела спросить о другом: в ответе вы упомянули звучание — как вы думаете, много ли общего у изобразительного искусства и музыки?
— Мне понятно, над чем работал Ротко: над звучанием двух цветов. И это абсолютно самодостаточная и глобальная вещь, гораздо большая, чем любая великая идея и мысль. Там целая вселенная, философия и самые красивые песни.
Музыка — такая же абстрактная вещь, как и живопись. Даже в фигуративной живописи у художника абстрактное мышление: формами, пятнами, объемами, соотношениями — так же, как и в музыке. В музыке есть гармония, и в живописи она тоже должна быть.
Я долгое время писал под музыку — например, под Led Zeppelin. Их творчество можно слушать фоном, и музыка держала меня в творческом настрое. А вот Beatles фоном слушать нельзя, поскольку их музыка поглощает все твое внимание. Сейчас я слушаю музыку для настроения.
— Сейчас чаще работаете в тишине?
— Наверное да.

«Названия картинам должен давать поэт»
— Расскажите о своих учебных годах в Латвии. Что ценное вы получили там для себя как художника?
— Безусловно, это важное время, и то, что я туда попал — удача. Я увидел персональные выставки Илмарса Блумбергса и Яниса Паулюкса и сборные. Красота меня поразила.
Когда я учился в КХУ, нашим ориентиром был Фешин: он здорово рисовал — хотелось так же. В то же время мне хотелось чего-то цветного, яркого, что совсем не стыковалось с Фешиным. Тогда еще нестыковка была мне непонятна: присутствовало неосознанное ощущение, что нужно выбирать между тем и этим. В Риге все встало на свои места. Я понял, что их образовательная система в корне отличается от нашей: там учат мыслить цветом, формальными вещами.
Педагогами были ведущие художники Риги. Художественная среда в этом городе достигла высокого уровня, мы варились в общем котле. Каждый начинающий художник на старте не мял рыхлый снег, а сразу наслаивал свое на большой снежный ком. Курс вели два преподавателя, а потому у студентов была возможность слышать два разных мнения. В моей группе было всего семь человек, и однокурсники мне очень нравились. На студентов не оказывалось давление, была широчайшая свобода. С первого или второго курса все устраивали себе персональные выставки, и было много мест, где можно организовать.
После учебы мне хотелось оставлять Ригу, но и уезжать из Казани насовсем — тоже, поэтому я работаю между двумя странами. На самом деле художникам нужен весь мир и все его достижения. Появление соцсетей, в частности, Facebook* стало для художников благом и существенно расширило профессиональное сообщество.
— Вы сказали, в абстрактной живописи в сочетании двух цветов можно уместить больше смыслов. Но ведь к этой мысли нужно сначала прийти. Как у вас это произошло?
— Через понимание желания заниматься цветом. То, что это не вяжется с тональными реалистическими вещами, подтвердил потом мой учитель в Риге. Он сказал: «Либо тон, либо цвет». Либо реализм, который тонален по сути, либо декоративность.
Я не люблю разделения на стили и не собирался работать в конкретном из них. Тяга к созвучию цветов и движение в эту сторону заставили меня очищаться; убирать лишнее, чтобы дойти до сути. И потом получилось, что это уже как-то называется.
В живописи я не вижу смысла. Как в музыке: Вивальди писал «Времена года», но в цикле нет ни осени, ни лета — есть звуки музыки, некая красота. Он искал новые сочетания звуков и работал только над этим. Сочинив музыку, он придумал ей название — может быть, на основе ощущений. Так же художник создает сочетания, и они организовываются в новое звучание цветов между собой.
Сам факт разговора об этом лишает искусство смысла. Облачение в слова приземляет, становится совсем скучно, ограниченно. Я часто говорю, что названия картинам должен давать поэт, ведь слова — его удел. Только поэт может сделать так, чтобы они не стали пустыми и глупыми и имели смысл.
Я не сторонник эзотерических учений, но мне интересно учение дао о том, что есть только путь. Божественность искусства состоит в том, что оно всегда нечто большее, у него нет крайней черты. Живопись — тоже путь: к красоте, идеалу, который, как горизонт, постоянно отодвигается по мере приближения к нему. Идти этим путем очень интересно — и зрителю, видимо, тоже.
— На вашей выставке значительная часть работ не имеет названия. Это чтобы не навязывать смыслы?
— Да, я предпочитаю оставлять работы без названия. Название все равно будет не о том, что я делал.

«Мои наркотики — это цвета»
— В вашем творчестве часто подчеркивается сочетание влияния западной и восточной культур. Это действительно так или просто штамп, который журналисты и искусствоведы перепечатывают друг у друга?
— Наверное, это так. [Казанский искусствовед, исследовательница Фешина] Галя Тулузакова написала об этом первая, и, в принципе, правильно. У меня восточный менталитет: я рос среди ковров на стене. Кто-то выбирает прямые линии, а я — все время какие-то завитушки. В западной же школе главное — цельность. Она всегда была впереди, а наш менталитет не позволяет мыслить настолько чистым образом. Для изобразительного искусства нужна лаконичность образа, выразительность — главное в картине. И вот этим эстетическим моментом в латышская школа очень сильна.
Искусствовед Александр Шумов написал о моих работах: «Варварски культурно». Я смотрю на свою деятельность изнутри, поэтому не задумываюсь об этом. Владимир Олегович Назанский очень удачно и здорово дал название моей выставке в «Эрарте» — «Внутренняя Булгария». Меня сразу осенило: я же этим и занимаюсь всю жизнь! Важно уметь увидеть искусство, обобщить его, но лучше — со стороны.
— Вы говорите, в живописи вам интересно отношение цвета. А в работах из стекла, кажется, цвета меньше…
— Это декоративно-прикладное искусство ограничено возможностями стекла и печки, там не найдешь звучания цвета, важно другое — техника.
Мне было интересно поэкспериментировать и узнать, как ведут себя материалы. Началось с заказа на оформление фасада: заказчик хотел «как нигде и никогда», а запланирована была мозаика. Мозаика сама по себе традиционна: на большом пространстве можно сделать ее в современных техниках, а там было маленькое.
У моего друга Рашида Тухватуллина была печка, и я подумал, можно попробовать исполнить заказ с ее помощью. Начал сочетать стекло с разными металлами. В печке составленная композиция оплавляется, можно стирать в порошок цветные стекла и присыпать сверху, к тому же есть различные краски. В стекле можно работать с пятном и композицией, с цветом — уже как получится, потому что не знаешь, каким будет результат, но изначально делаешь композицию из пятен. Осталось два стекла, и вот они здесь, на выставке.
— Чем стекло отличается от краски? Вы ведь в основном работаете маслом? Понятно, что это совсем разные материалы…
— Я работаю всем, что оставляет цвет и держится.
Со стеклом я создавал вещи только в технике фьюзинг, то есть запекал. Главное отличие от живописи в том, что ты компонуешь стекла, как можешь, используя то, что можешь. Накладываешь стекла друг на друга, засовываешь что-то между и не знаешь, как это все изменится благодаря высокой температуре. Композицию раскладываешь быстро, режешь, присыпаешь, кладешь в печку и не можешь изменить результат: что вышло, то вышло.
Цвета могут поменяться кардинально: что было синим, станет оранжевым. Металлы ведут себя совершенно иначе: золото и серебро не меняют цвет, а имитация золота желтым цветом превращается в фиолетовый. А иногда стекло в печке взрывается.
Я делал выставки из стекол, По пятну они казались композиционно интересными, но по цвету, как правило, ужас. В картине же ищешь цвет. Выложиться в полной мере можешь только в технике живописи.
— Почему в некоторых работах вы используете текстиль?
— Это все та же краска. Я получаю удовольствие от сочетания цвета. Ищу удовольствие, как наркоман. Мои наркотики — это цвета.

«Профессионального художника можно сделать из любого человека»
— Как вам кажется, какое качество важно иметь художнику? Может быть, вы особенно цените в себе определенное из них?
— Как я уже говорил, у меня есть острая потребность в творчестве. Любая другая деятельность не приносит такого удовлетворения, даже если все получается. Но если получается картина и появляется красота, я испытываю восторг. Ради него я занимаюсь живописью, видимо, именно это держит.
Я заметил: профессионального художника можно, грубо говоря, сделать из любого человека. Нужен скорее не талант, а определенные черты характера: упорство, злость желание продолжать, пока не получится. А если есть еще и талант, из человека выйдет очень хороший художник. Хотя я и сам иногда думаю: «Какой ужас, а тем ли я вообще занимаюсь?» Потом оборачиваюсь и думаю: а у других-то еще хуже, они же рисуют.
— Вы много говорите о красоте. Не кажется, что она субъективна?
— Нет, она как раз объективна. Мне кажется, искусство — просто. Это красота, гармония и выразительность. Бог создал человека по своему образу и подобию, понимание красоты заложено в человеке. Постигать красоту можно всю жизнь. Кто-то, может быть, уже прожил много жизней, прошел путь и находится на том уровне, когда чувствует гармонию и красоту, а у кого-то видение красоты примитивно. В постижении понятия красоты, наверное, и состоит путь души человека.
Например, поп-музыка нравится сразу, а потом оказывается, что там нет красоты: чем больше слушаешь, тем больше хочется убежать, чтобы не слушать. А что-то, наоборот, сначала кажется абракадаброй, потом просто нравится, затем восторгает. Красота не бывает разной — она бывает постигнутой или не постигнутой. Я не согласен с высказыванием «На вкус и цвет товарища нет». Вкус либо есть, либо нет. Если он есть, человек хорошо ориентируется в разных искусствах.
Текст: Луиза Низамова
Фото: Альбина Шакирова для Belova Art Gallery
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство региона, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. В этот раз героиней рубрики стала художница и кураторка Настя Мороз.
Enter встретился с Настей на ее персональной выставке, чтобы поговорить об уязвимости, экспериментах с керамикой, крови единорогов и мармеладных мишках.

На фото: художница Настя Мороз в окружении ее родителей


Художница, кураторка, участница арт-группы «Замороженная конина» и соведущая одноименного подкаста Настя Мороз родилась в Казани в 1984 году. В 2007 году она окончила факультет архитектуры КГАСУ, а через 10 лет увлеклась студийной керамикой и прошла курс подмастерья в Lule ceramics. В 2018-2019 годах прошла обучение на курсе «Художественная керамика» у Татьяны Герман. Живет и работает в Казани.
В искусстве Настя считает важным интуитивное считывание смыслов, поэтому использует язык абстракции. Глина, с которой она работает, своей мягкостью и плавностью подсказала обратиться к органическим формам. Художница использует оттенки, которые ассоциируются с человеческими органами, и стремится к тому, чтобы керамика была прекрасной и ужасной одновременно.
Настя Мороз работает не только с керамикой в чистом виде, но и комбинирует материалы, создает инсталляции, занимается сценографией и бутафорией, раздвигая рамки представлений о себе как о художнице. Недавно в Belova Art Gallery открылась ее первая персональная выставка «Объект М. Аллегорический эпос», а до этого Настя — участница групповых выставок: «Семь сокровищ стены» (двор Присутственных мест, Казань), «Озарения. Современное искусство Казани. XX-XXI», 2022 (галерея «Виктория», Самара), «Точка отсчета» (торговый центр МЕГА, Казань) и других.


— У тебя архитектурное образование. Как ты стала работать в качестве художницы?
— Я начала относиться к занятию керамикой как к профессии и стала называть себя художницей с 2019 года. В том году готовилась «022-12» — групповая выставка нашего учебного курса по художественной керамике в школе Angry potter у Тани Герман. Параллельно я слушала лекции от разных кураторов и разбиралась в том, что такое CV, artist statement. Когда я вернулась из Москвы, Катерина Конюхова (художница и куратор, — прим. Enter) заметила, что я что-то делаю, и позвала меня участвовать в выставке «Шум города». Мне понадобились все накопленные знания. Стало появляться все больше знакомых художников — интересные, адекватные люди. Я чувствовала себя такой же, как они, и признала свою сущность как художницы. Оглядываясь на свою прежнюю деятельность в отделе маркетинга «Меги», я вижу, что она тоже была творческой.
Раньше я не думала, что художник — отдельная профессия. Изначально я хотела поступать в художественное училище, но родители засомневались, и так как я с детства знала, что буду заниматься архитектурой, поступила в КИСИ (сейчас КГАСУ, — прим. Enter). Хотя искусство мне тоже всегда было интересно.
— Как ты пришла к глине?
— Я стала искать материал, с которым было бы интересно работать, еще до керамической школы, в декрете — понимала, что уже не хочу возвращаться на работу в «Мегу». Рассматривая различные варианты, обратила внимание на студийную керамику, которая в Казани была еще не так популярна. Мне понравилась студия Lule ceramic — импонировало, что основательница студии Леся Лукашенко тоже была архитектором. Тогда там был открыт курс подмастерья, где я познала все азы керамики. После него мне захотелось пройти еще какое-то обучение. Я нашла курс Татьяны Герман и тогда же увидела в сторис открытие выставки керамики, на которой были объекты, а не привычные пиалы и другая посуда. Я стала смотреть, на кого подписана Таня, и поняла, что керамика — это необъятный мир.
Летом 2018 года я приняла решение об уходе из «Меги», а осенью получила письмо с приглашением на курс Тани. С тех пор мы дружим, и именно она научила меня работать, разрабатывая идеи при помощи майнд мэпа и расписывая их в форме ассоциаций в скетчбуке.
В керамике меня привлекают объем и возможности. Изучить все, что можно с ней сделать, невозможно за всю жизнь, и даже сейчас я в самом начале своего пути.
— Чем отличается твоя керамика от той, которую можно сделать на мастер-классах в гончарных мастерских?
— Первое — это время и наличие материала: я могу взять любое количество глины и сделать, что хочу. В гончарных выдают точное количество, и сложно почувствовать материал. Второе — мастер-классы сфокусированы на получение крепкого изделие, с которым ничего не случится: главное здесь — функция вещи и ее дизайн. В художественной же керамике изделие может треснуть, и это нормально. Функция здесь не важна, потому что внешний вид художественной керамики — это выражение твоих внутренних переживаний.
— О каких особенностях глины как материала нужно помнить, когда готовишься выставлять свои объекты?
— Когда создаешь некий объект, который должен висеть на стене, то должен продумать крепеж до того, как изделие обожжется. Затем нужно продумать, как его доставить, сколько нужно глазури, материала, времени, чтобы объект успел высохнуть. На новую работу для выставки уходит три месяца: эскизирование, тесты, покупка материала при необходимости, понимание нужной температуры обжига, а также представление, как объект должен выглядеть в итоге.
Именно поэтому в опен-коллах с месячным дедлайном сложно участвовать. Это возможно, если технология уже отработана и хочется повторить ранее созданные вещи, но рискованно. В разное время года сушка проходит по-разному: весной и осенью в помещении сыро, керамика сохнет дольше. Дополнительно организовать сушку — дорогое удовольствие. К тому же чем агрессивнее процесс сушки и обжига, тем больше вероятность «брака» — трещин и так далее. Но я использую «брак» как преимущество и как особенность.
— Как выглядит твоя мастерская?
— У меня было несколько мастерских. Сначала дома, потом в помещении на 5 квадратных метрах, теперь — 20: большое пространство с двумя столами и стеллажами, много подписанных баночек с разными химическими составами. Главное для меня — возможность работать и на полу, и на столе. Там нужно постоянно убираться, потому что когда глина высыхает, появляется много пыли. В мастерской пахнет глиной и землей.

— В данный момент мы находимся на твоей выставке «Объект М. Аллегорический эпос» в Belova Art Gallery. Это твоя первая персональная выставка?
— Да. Я ее очень хотела, но не так быстро. Подобные вещи все время откладываешь на потом, и галерея подстегнула меня, когда поставила дедлайн. Сначала я пыталась двигаться от темы выставки, поскольку она первая, а потом поняла, как много всего хочется реализовать, и решила отключиться от этого желания в пользу других. Например, я давно хотела сделать большие работы. На заводе, где находится мастерская, существует производство «Тандыр24» с огромной печью 5х3х2 метра, и у меня возникла мысль, что нужно успеть воспользоваться такой возможностью. Еще мне помог художник, керамист и преподаватель Марат Алиакберов — он занимается изготовлением витражей. Приносил мне стекло, а я сортировала его по цветам и думала: «Надо с ним что-то сделать».
Перед Новым годом, когда я пришла на мероприятие в Belova Art Gallery, мы обмолвились о выставке на 2023 год, но не обговорили ничего конкретно. В конце февраля со мной связались и спросили: «Ну что, ты готова?». Я даже подумала: «Может, есть возможность сделать это позже?», — хотя понимала, что лето — классное время. Мыслительный процесс, какой должна стать моя выставка, оказался мучительным, потому что мне хотелось показать новые работы, а их физически не было — только в моих мыслях и записях.
Времени оставалось впритык, и когда я начала работу над новыми вещами, составила подробный план: во сколько приходить и чем заниматься в мастерской, когда загружать печь, чтобы осталось время на просушку керамики и ее запекание. Фаниль Гайфутдинов, директор «Тандыр24», пошел мне навстречу и обжег полупустую печь, чтобы я успела в срок, за что я ему бесконечно благодарна. Мне хотелось попробовать новое, и я не знала, что получится.
— Можешь рассказать, как она устроена?
— Вначале я задумывалась о приглашении куратора с керамическим опытом — удаленно, потому что она не в Казани, — но у меня не получилось. Когда часть работ была готова, я поняла, что одна не справлюсь, и пригласила курировать выставку Катерину Конюхову. Пространство галереи очень сложное для экспозиции, и когда Катя включилась, я вздохнула с облегчением. Я стала рассказывать ей про процесс создания керамики, объясняла термины, отправляла фотографии объектов и рассказывала, как меняется цвет. Или присылала видео с большим объектом, а через две минуты писала, что все развалилось и я начинаю заново.
Мне сложно формулировать мысли в текст и говорить проще, а у Кати здорово получаются тексты. Она показала мне сумасшедшие юношеские рассказы про свои сны, и я увидела ее с новой стороны. В этот раз мне не хотелось идти по стандартному пути и запаковывать свои работы в сложные аннотации, поэтому я предложила написать что-то похожее.
Когда я разрабатываю свои работы, начинаю со слов и ассоциаций, которые порождают диалог с собой. Поэтому первый текст должен быть таким ярким. Перед представлением концепта выставки галерее мы сели с Катей, и [аннотация] как-то сразу полилась. Зрителя встречает текст на фоне цвета крови единорога. Идея пути в рассказе соединила все объекты, хорошо вписалась в архитектуру галереи и завершилась видео, которое раскрывает суть: кто же такой объект М и что с ним происходит?
Мне понравился опыт видеоинсталляции в «Шуме города» в ГМИИ РТ, и я позвонила за советом режиссеру продюсерского центра документального кино Gorizont Films Дидару Оразову. Дидар собрал команду, а мне оставалось только объяснить, чего я хочу. Я заранее подготовила несколько необожженных объектов, и мы сразу начали снимать, договорившись обо всем на берегу. Переснять это было невозможно. Мне понравился финал: он заканчивается тем же, чем и начинается — чистым полем.
— Насколько я знаю, у тебя есть сценографический опыт. Расскажи о нем?
— Это документальная спиритическая драма о поэте Рахиме Саттаре «Высокий дух». В ноябре 2022 года я и познакомилась с Дидаром Оразовым. Мы с Катей искали голос для подкаста «Замороженная конина», он согласился записать заставку. Проходит, наверное, два дня, и он присылает студийный профессиональный ролик с музыкой в разных вариантах — в общем, подошел очень серьезно. Мы с Катей обалдели. «Я, — говорит, — целый день произносил “замороженная конина”, но только через неделю понял, откуда взялось название (игра слов с фамилиями участниц группы, — прим. Enter)». И предложил посотрудничать — поработать над сценографией.
Мы с Дидаром друг другу помогали — получился потрясающий опыт. Над сценографией я работала не одна, а с художником Сашей Шардаком — позвала его, поскольку он уже занимался подобными вещами.

— Мне кажется, твоя скульптура усложнилась: ты стала больше использовать смешанные техники, и форма стала другой. Изменилось ли у тебя что-то как у художницы?
— Да, но это все родом из детства. Мой отец много лет собирает валежник самых интересных форм. Принося их в дом, он часто спрашивал, что я в них вижу. В моей керамике есть и что-то от грибов — мы много времени проводили на природе, папа собирал их, разрезал и показывал внутри. Папины деревяшки и мои работы очень похожи и по цвету, и по форме. Для меня эта схожесть — определенный этап. Как чешуя, которую нужно сбросить.
Единственным стоппером был дедлайн по выставке. Куратор в определенные моменты говорила заканчивать, а так бы я, наверное, еще что-то переделала. Была и идея сделать выставку одного гигантского объекта, но я не рискнула — в этом случае есть только одна возможность, только одна работа и только одно время.
Еще Катерина говорила о важности после первой персональной выставки захотеть сделать следующую. И действительно, после открытия ты думаешь: «Больше никогда!», — а потом постепенно приходишь в себя. Уже сейчас у меня есть желание продолжать, и это радует. Прежде мы с Катериной открывали групповые выставки, но твою личную ты оцениваешь более критично. Все детали имеют значение.
В выставке «Объект М» я старалась подвергнуть сомнению стереотипы о керамике. Однажды художник a l e s h a спросил, можно ли создавать ее с помощью силиконовой формы. Я ответила нет, а потом долго думала, почему, и решила проверить. Оказалось, небольшие объекты делать вполне можно: мишки на выставке созданы именно таким способом, и каждого из них я протирала пальцем, чтобы сгладить неровную поверхность…
— В артист-стейтменте ты пишешь, что тебе нравится абстрактная форма, потому что ее можно интерпретировать очень широко благодаря интуитивному восприятию. Что было первично: она или материал?
— Я отдаю предпочтение более гладкой глине, а глину с обожженными частичками использую как каркас. Сейчас мне по структуре нравится фарфор, даже без глазури. Он дает сильную усадку, и работая с ним, надо заранее представлять желаемое. Меня это привлекает. Глина дает большую опциональность в работе: я могу в любой момент что-то отлепить или долепить. Гладкая глина по структуре приятнее, и, наверное, я хочу сейчас переходить в основном на нее.
Я ставила себе задачу сделать большой объект и двигалась, как подсказывает глина, где-то проваливаясь или требуя дать высохнуть. Лепила по слоям целую неделю, потому что нельзя набрать сразу весь объем материала, иначе все просто рухнет — и за этим тоже было интересно наблюдать.
А вот капы я вообще делала на гончарном круге. Я понимала, что важно сохранить форму заготовки, аккуратно срезала ее с круга, а остальное долепливала вручную. Мне нравится глина, потому что с ней ты можешь только предполагать, какой объект выйдет в финале: сначала делаешь заготовку, затем понимаешь, что из нее ты через день или два будешь делать нечто еще, а потом будет сколько-то времени внести коррективы. В работе с глиной важна четкость и дисциплина: нельзя продолжить процесс в случайный момент, потому что все высохнет и с заготовкой уже ничего не сделать.
На выставке есть вещи в разных техниках: гончарный круг, смешанные техники, накрутка, ручная лепка, отминка. Некоторые штуки сделаны из пласта — налеплялись на форму. А вот в «Нарост 1», например, красное расплавленное стекло.
Расскажу, как в работах родилась эпоксидка. Высокотемпературная глина дает больше возможностей для экспериментов, и я использовала высокую глазурь. Из-за недостаточной температуры — вероятно, в несколько градусов — она недожглась и осталась матовой, а в моем представлении объекты должны быть глянцевыми. Выяснение причины недообжига — длительный процесс, и я подумала: если в керамике используется стекло, почему бы не взять эпоксидную смолу? Я уже обращалась к ней, когда делала работу для выставки в Свияжске («О необычном заказе Петра I в Китай», 2022 — прим. Enter). В итоге в объектах для Belova Art Gallery получился очень интересный эффект пирожных, покрытых сахарным сиропом.
— Хочу снова обратиться к твоему артист-стейтменту. Остается ли до сих пор важным твое обращение к телесным, органическим цветам?
— Сейчас хочется добавлять другие. Например, голубая работа — элемент инсталляции «Пир». Мне всегда сложно давался синий цвет и никогда не нравился результат, а сейчас я увидела, что он интересно смотрится в экспериментах и в сочетании с другими цветами.
При создании другой работы у меня закончился черный пигмент, и я купила глазурь. В инструкции было написано, что при содержании пигмента меньше определенного процента черный не проявится, и глазурь уйдет в коричневый. У меня так и вышло. Получился интересный эксперимент, хоть я и люблю черный цвет в керамике — как запекшаяся кровь или гниль.
Еще хочу попробовать работать с холодными оттенками — например, бирюзовым селадоном, который получают только в газовой или дровяной печи при восстановительном обжиге. Японцы покрывают такой глазурью свои пиалы, и из них приятно пить.

— На выставке в первом зале скорее ландшафты, а во втором масштаб уменьшается, и мы оказываемся на камерном странном застолье, где все выглядит аппетитно, но вещи являются не тем, чем кажутся. Ты заранее планировала создать такую разномасштабность?
— Когда кто-то приходит в мою мастерскую, то начинает копаться в тестах и маленьких штуках. Я поняла, что зрителю интересно разглядывать, и изначально хотела такой стол. Даже рассматривала дать возможность посетителям брать вещи в руки, но решила, что искусство лучше не трогать (смеется, — прим. Enter).
В инсталляции «Пир» соединились два моих интереса — кулинария и керамика. Когда я еще не знала, куда меня выведет творчество, думала, что буду связана с кулинарией. Мне нравится иметь дело с текстурами, цветами, разными сочетаниями. Кулинария для меня — эксперимент, так же как и небольшие работы, вошедшие в инсталляцию. Чтобы считывался пир, я сделала подсвечники, а с Катей мы выбрали скатерть приятного фруктового цвета, но когда присматриваешься, понимаешь, что это вообще не съедобно, а иногда даже противно. В инсталляции есть не получившиеся вещи — я решила показать свою уязвимость. Например, в одной из скульптур я перепутала каолин с фарфором. Здесь есть тесты из глазури и стекла и даже гипсовая тарелка для отминки: было важно показать часть процесса. Присутствуют и свежие, и более ранние опыты.
— На выставке есть работа вашей с Катериной арт-группы «Замороженная конина» — «Препятствующий портал». Расскажи о ней?
— Я сразу планировала сделать какое-то препятствие: мне не хотелось, чтобы зритель легко попадал в последний зал. Интересно, что не все люди догадываются заходить: кто-то боится, а кто-то смело проходит сквозь.
— Мне кажется, это метафора искусства: чтобы его понять, нужны усилия. Часто ли тебе задают вопрос, как? Что ты отвечаешь?
— Такие вопросы возникают, когда зритель видит открытость художника или куратора. На самом деле им просто хочется поговорить, и зачастую они сами отвечают на свои вопросы в процессе диалога.
Круто, когда у зрителя рождаются ассоциации. Моя керамика не такая мимимишная, какой ее обычно лепят, поэтому я сразу была готова к комментариям из разряда «непонятно» или «фу, бе». Но мне нравится, что людей это трогает. Про работу «Зарождение» мне написали человек восемь — они осознали, что у них трипофобия, и им стало легче. Для меня бабочки — ужас несусветный, а кто-то боится отверстий.
На экскурсиях мы даем опорные точки, чтобы зритель попробовал увидеть путь наших мыслей. Но даже если нет — не страшно. Хочется, чтобы посетители просто что-то почувствовали, нашли или ужаснулись, а в сегодняшней повестке возникали еще и другие разговоры. Лучше сконцентрировать свой негатив на объекте с выставки, а не на других людях.
— На данный момент вы с Катериной Конюховой — однозначно самые плодотворные кураторы Казани. Что важного ты для себя поняла благодаря кураторскому опыту?
— Наше объединение с Катей, с одной стороны, освобождает время на то, чтобы оставаться художницами. С другой — естественным образом происходит деление обязанностей: например, Кате легко дается общение с прессой, а мне — работа с таблицами и подрядчиками, поиск материалов и технологий. Спорные вопросы решаются совместно. У нас с Катериной схожие ценности, и нам повезло работать вместе.
В работе куратора с художником важно не гнуть свою линию, а пытаться найти самую суть и раскрыть ее. Экспозиция — не просто развеска картин, а история, которую ты рассказываешь.
Текст: Луиза Низамова
Фотографии: Владислав Загирный
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство региона, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. В этот раз героем рубрики стала художница Зухра Салахова. Enter встретился с Зухрой, чтобы поговорить о насекомой культуре, вышивке как автономном искусстве, ловушках для шайтана на узбекских коврах и спокойствии.

Зухра Салахова

«Что приходит с ниоткуда и уходит в никуда», 2022, днище от детской коляски, стекловата, дерево, 40 х 50 х 110 см
Зухра Салахова родилась в Казани в 1997 году. Училась на отделении декоративно-прикладного искусства в КХУ им. Фешина. Живет и работает в Казани. Участница выставок «Полынь» (Plague space, Краснодар, 2022); Terminal B (ЦСК «Смена», Казань, 2022); Boreal Throne (ЦСК «Смена», Казань, 2022) «Озарения. Современное искусство Казани. XX-XXI» (галерея «Виктория», Самара, 2022); «Пока нас не разбили блуждающие волны» (ЦСК «Нулевая комната», Самара, 2022); Sinkhole Project (ЦСК «Смена», Казань, 2022); Aladdin kebab (Lil space, Ростов-на-Дону, 2021); «Червоні тіні / Red Shadows» (офф-сайт выставка, Казань, 2021), «Кажется, будет выставка в Казани» (ЦСК «Смена», Казань, 2021, 2022) и других.
Основа художественной практики Зухры Салаховой — обращение к языку символов в пространстве личной мифологии, в которой растворение стилизованных персонажей в орнаменте является действием «вооружения», а не украшения. Центральные темы ее искусства — уязвимость человека относительно власти волшебных камуфлированных сил или неподвластных обстоятельств. Ключевые инструменты работы — осознанное обращение к традиционному медиуму вышивки и кропотливой рукотворности процесса, манипулирование языком архаики и выбор сюжетов древности.

«Троны», 2022, ткань, мулине, размеры варьируются

«Голова Адама», 2022, стекло от люстры, мулине, ткань, полимерная глина, 10 х 30 х 3 см
— Давно хотела спросить: как правильно ставить ударение в названии твоего аккаунта — «насекомое в душé» или «насекомое в ду́ше»?
— В душé. Я придумала его, когда мне было 20, — сейчас, конечно, он кажется несколько наивным.
— Первые фотографии твоих работ в инстаграме*— это вышивки в плоско-декоративном стиле. Уже тогда присутствовали мотивы леса, животных, насекомых, — в общем, живого с налетом мистицизма. Расскажи, с чего ты начинала?
— В художественном училище на втором или третьем курсе у нас был небольшой блок по вышивке, и я остро ощутила, что могу начать реализовываться в этом медиуме. Тогда существовал ряд тем, которыми я была сильно озабочена, — магическая природа орнамента, его манипуляции восприятием человека и насекомая культура.
Насекомые в истории и культуре — это очень большой, сложный и важный пласт. Невозможно отрицать огромное влияние насекомых на строительство нашей цивилизации. Многие фундаментальные повороты истории произошли благодаря им, как например чума, разлив Нила и появление Египетской цивилизации. Даже тот факт, что мы являемся безволосыми существами, эволюционно связан с нашим сосуществованием и взаимодействием с миром насекомых.
Посредством вышивки я начала реализовывать вещи, которыми была одержима, и придумала вышивать насекомых, напоминающих орнамент по форме. Слово «орнамент» исходит из латинского «снабжать», «вооружать». При помощи вышивания мне хотелось сделать таких вооруженных неуязвимых властителей мира — с этого я и начала. Тогда я наступила на первые грабли: создавая своих насекомых в виде брошек, я не подумала о том, что текстильное искусство может быть автономно, обособленно от утилитарного назначения.
— Почему ты думаешь, что искусство нельзя носить?
— Искусство принципиально бесполезно и неутилитарно. Приобретая некое назначение, объекты уже переходят в поле дизайна. Создание украшений — занятие, которое я автоматически переняла, но это не то, в чем мне хотелось развиваться.
— Ты начинала с плоских текстильных вещей, но потом вышла на объем — стала делать пространственные произведения. Как это происходило?
— Это было осознанное действие, к которому я пришла спустя много плоских вышивок. Работая на плоскости, я помещала свои произведения в область графики или живописи, тем самым нивелируя факт ручного труда и сами свойства материалов. Я поняла, что хочу добиться текстильной автономии. Для меня было важно переходить в объем, а не работать по инерции.
Есть расхожее мнение, что в Средневековье гобелены не считались обособленным видом искусства, а являлись всего лишь копиями больших картин. Занимаясь плоской вышивкой, я осознала, что воспроизвожу эту историческую ошибку, когда не отвоевываю самость текстиля, а просто повторяя рисунок на плоскости.
— А твои самые первые объемные работы — они какие?
— Они скрыты в моем аккаунте и они очень стремные. Я проходила через долгие и мучительные поиски и сделала много чепухи. Позже я поняла, что в своей практике в каждый период прихожу к очевидным умозаключениям, хотя могла бы перенять их из истории искусства. Получилось, что я приходила к ним на собственном опыте через множество трудоемких вышивок.
— Как называется специальность в художественном училище, на которой ты училась?
— Я кожевник. Мастер по художественной обработке кожи, художник и педагог.
— Получается, вышивка была только частью твоего обучения?
— Да, она занимала совсем небольшой блок, но я почувствовала, что этот медиум абсолютно подходит моему темпераменту и имеет гораздо больший потенциал, чем все то, с чем я до этого работала. В вышивке важна вдумчивость и безэмоциональность процесса. В нем нет места случайности и остается исключительно работа твоего мозга, которая, конечно, требует терпения.

«Счёты», 2022, дерево, проволока, перепелиные яйца, ткань, мулине, 30 х 15 см

Фрагменты композиции «Тривия», 2022
— Твой интерес к орнаменту проявился еще до учебы в училище?
— Да, в училище я только глубже раскрыла для себя эту тему. Я поняла, что орнамент — это вообще не украшательство, а сложная, вдумчивая вещь; убеждение, повторяющееся из раппорта в раппорт и пространство для манипуляций.
— Когда ты бываешь в других городах и странах, заходишь в местные национальные и этнографические музеи?
— Да, это обязательная программа. Дело в том, что я не была в странах, которые разительно отличаются от России, — только в Сербии, Украине, Черногории и Абхазии. И я подметила, что музеи декоративного искусства похожи. В них будто бы одни и те же вещи — вероятно, из-за схожего исторического опыта.
Меня очаровывает культура Востока, которая осознанно обращается с орнаментом: он не обладает свойством украшения места, а является предметообразующим. Воля к украшению своей жизни в самом широком смысле восходит из самого Корана. Для восточных людей орнамент был средством коммуникации. Он мог защищать воинов или сообщить о том, замужем ли женщина и так далее. Узоры на сапогах — целая история.
Еще меня впечатляют узбекские ковры. Орнамент на этих коврах специфичный: внутри него всегда есть поломка — например, какой-то кружок выкрашен не в тот цвет. Один элемент принципиально меняется, и создается узелок, чтобы в него попал шайтан.
— Орнаменты, которые ты изображаешь, — твои личные изобретения или нечто вроде среднего арифметического из того, что ты видела?
— Скорее среднее арифметическое. Я четыре года рисовала татарский орнамент и уже не могу отучить свою руку от рисования его и других, схожих с ним.
— Ты рисуешь эскизы к своим объектам или держишь картинку в голове?
— Я достаточно долго и мучительно все вынашиваю. У меня почти нет вещей, которые были бы сделаны с первого раза. Практически все переделывается. Я долго делаю эскизы, потом обдумываю.
— Ты говорила про кожу, но в твоих работах, насколько я помню, ее нет. Существует некая особенность этого материала, которая не позволяет его гибко использовать?
— Мы с тобой только что говорили об образовании. В таком консервативном месте, как художественное училище, художника-прикладника учат обращаться к языку знака и стилизации. Кожа — один из вариантов реализации этих навыков, в работе этот материал более брутальный, менее детальный и поэтому более тяжелый. Вышивка же — более «живительная», в ней есть пространство живописи, воздух и, как мне кажется, голос ее медиума звучит громче.
— Во время дискуссии в «Смене» в рамках выставки «Кажется, будет выставка в Казани», в которой ты была участницей, ты рассказала о своей работе «Верлиока». Это же увеличенная модель некоей бактерии?
— Это частицы пыли.
— Я сделала вывод, что если объединить твои работы по смыслу, получится что-то маленькое, ползучее, может быть, не очень приятное… А какими ты видишь свои работы?
— Для меня ценно, что и насекомые, и пыль — достаточно замкнутые, обособленные от человека общества, которые успешно функционируют и живут без страстей, подчиняются только своей заложенной программе и внутренней воле. Довольно обидно и скверно, что человек своей культурой часто оттеняет насекомых негативной коннотацией, хотя мог бы перенять их модели поведения для построения качественно функционирующего общества.
— Твои работы можно назвать скульптурами?
— У меня есть какое-то внутреннее сопротивление: мне важно работать с медиумом и делать текстиль автономным, но при этом привязываться к медиуму — опасно. Поэтому правильнее сказать, что это объекты.
Нельзя отрицать, что у медиума есть голос. Он однозначно является актором, но не самоцелью, и лучше не акцентировать внимание на том, что это текстиль, иначе получится обращение к старой школе в нехорошем смысле слова. Все вопросы относительно скульптуры, живописи и остальных видов искусства уже кучу раз решены, а так ты как будто снова вступаешь с ними в диалог.
— У тебя есть очень масштабные работы — например, «Дрема» на выставке «Точка отсчета» в «Меге». Как ты ее сделала?
— При создании этой большой вещи я совершила ошибку, работая инструментами, которые используют для мелких вещей. Я вручную наматывала, клеила, подшивала… Она стоила мне титанического труда, а результат оказался не таким уж и выразительным. Делать проволочную композицию симметричной было дурацким решением — при развеске все поплыло и симметрия не считывалась. На самом деле, подобные вещи можно выполнить эффектнее и проще, а я делала ее так, словно создавала вышивку. И поэтому, если говорить в контексте моего обращения к большому масштабу, я считаю, что «Дрема» — провальная работа. По крайней мере, относительно ее технического исполнения.
— Если бы была возможность создать ее заново, как бы ты это сделала?
— Я бы не делала настолько наивную иллюстрацию и не вставляла бы ту проволоку. Все можно было решить другим, более эффектным рисунком на баннере, не добавляя неуместную работу руками. Видимо, у меня было желание оправдать ценность работы фактом ручного труда — пережиток старой школы.

«Часы», 2022, смешанная техника 40 x 41см

Фрагмент композиции «Орфей спускается в ад»
— А что тебе нравится создавать больше — масштабные или камерные вещи?
— Масштаб — это инструмент и пространство для манипуляций. Все зависит от целей. Мне кажутся выразительными и эффектными [именно] маленькие объекты. Но сейчас я готовлюсь к участию в групповой выставке, на которой будет моя тотальная инсталляция в коридоре длиной в 11 метров.
— Расскажи, что будет на этой выставке?
— Я курирую ее сама. Выставка пройдет в воронежском artist-run space «дай пять», такой белоснежной комнате, и будет посвящена цикличности, вечному возвращению и движению времени. Я хотела сделать для нее нечто минималистичное, воздушное. Там будет только три объекта, поэтому важно, чтобы они работали точечно, метко.
Например, эта вещь (показывает работу «Часы», — прим. Enter) — солнечные часы. Я долго доходила до находки с кругом и вешалкой. В часах заключен уроборос и змея, которая вышла в пространство. Его тело начинается деликатно, продолжается деликатно-орнаментально, затем контрастно-орнаментально, а потом переходит в орнамент, будто пересекает границу реального и превращается в знак. Здесь две змеи, символизирующие пространство-временной континуум и само по себе течение времени.
Еще одна работа для этой выставки, композиция «Орфей спускается в ад», вызывает у меня напряжение, потому что боюсь, что она выглядит слишком funny. Она будет переходить со стены на окно, и мне важно, чтобы все это в совокупности не выглядело как какая-то странная штука. Я хочу, чтобы [считывался смысл] о потоке времени, движении и логике сборки метаморфоз, которые происходят в двух направлениях. Третья штука в виде санок будет сделана уже на месте. Сейчас я работаю дома, потому что здесь вышивать гораздо легче, чем в мастерской.
— Чем ты руководствуешься, когда задумываешься о том, как будет выглядеть твой следующий объект? Какое визуальное впечатление ты хочешь создать?
— В последнее время это несколько болезненная для меня тема. Когда я создаю вышивки, то ощущаю, что работаю внутри своего языка. А когда перехожу на скульптуру, чувствую, что нужен немного другой метод сборки, чтобы оставаться в рамках языка. Раньше меня впечатляли строительные материалы, похожие на органические. Сейчас же понимаю, что они, грубо говоря, в мейнстриме, и, пользуясь ими, я не работаю над своим стилем. Я переосмыслила свою практику, и сейчас, находясь в процессе подготовки к персональной выставке, создаю новые объекты, в которых, помимо прочего, работаю с вышеупомянутой проблемой.
Если вести отсчет с первой выставки, как художник я работаю третий год, а скульптурой занимаюсь около двух лет. Последний год посвящаю все свое время искусству, и процесс развития стал происходить гораздо быстрее. Поэтому кажется, что три года — это большой срок.
— Что ты чувствуешь, когда начинаешь новую работу?
— Все время о ней думаю. Это очень большая проблема — я целиком погружена в процесс. Больше года назад я дерзнула и уволилась с работы, чтобы заниматься только искусством, почти никуда не хожу, мало общаюсь с людьми, и у меня не остается никакого воздуха, практически никакой деятельности в другом поле, — вероятно, поэтому объекты кажутся мне вымученными. Я стараюсь «освежаться» и отвлекаться с помощью специальных практик, но у меня не особо получается — в конечном счете я все равно долго вынашиваю идеи, примеряюсь. Это достаточно тяжелый процесс, который редко бывает приятным. Полное удовлетворение никогда не наступает.
— Даже когда ты видишь законченный объект на открывшейся выставке?
— В каждом законченном объекте я вижу ошибки, которые совершила в процессе, но стараюсь воспринимать их в позитивном ключе и использую этот опыт в будущем. Еще поняла, что держать себя в эмоциональном и умственном тонусе — большая работа. С каждым разом я прихожу к некоторому спокойствию — а затем совершаю следующую ошибку. Я поняла, что стала по-настоящему работать с медиумом, когда прекратила создавать плоские вещи по инерции, и за каждым новым шагом передо мной вновь вставали и встают следующие вопросы.
Язык, на котором художник говорит при помощи своих произведений, формируется не только эстетическими критериями, но и логически. Я очень хочу продолжить работать с вышивкой по-настоящему, и мне важно попробовать сделать нитки автономными от ткани, позадавать вопросы относительно вещи, которую я делаю по привычке и не задумываясь, и переизобрести ее. Но это в идеале.
— Как называются швы, которыми ты пользуешься в вышивке?
— Самые обычные — «вперед иголку» и «назад иголку». Сейчас я озабочена вопросом создания небольших вещей вроде сувениров — чего-то доступного, ведь не все могут позволить себе купить вышивку. Я начала делать карабины с оплеткой из вышивки в виде змей, и там тоже использую эти швы.
— Ты работаешь днем или вечером?
— Почти весь день. Например, фрагмент композиции «Орфей спускается в ад» по времени изготовления занял пятнадцать часов чистой работы без перерывов. Вообще, я все время что-то делаю, но продукт на выходе такой маленький, что как будто сделано не так уж и много. [В этом смысле] мне нравится идея, которую я прочитала у Марины Абрамович: лучше долго вынашивать и делать медленно, чем умножать плохие вещи и заполонять ими планету. Еще мне вспоминается Стивен Кинг. Режиссеры снимают кино не только по его романам — даже по рассказам. Мне кажется, большое количество хорошего материала появилось во многом благодаря тому, что он взял за правило писать по десять страниц каждый день независимо от выходных и праздников, и [тем самым] оставил уже такой ощутимый след, что не жалко умирать. Это классная методика.
— Как думаешь, что будет с искусством в Татарстане в ближайшее время?
— Происходящее сейчас очень травматично для искусства. Боюсь, большое количество молодых художников просто уедет.
— Ты снимаешь мастерскую вместе с художником Артуром Голяковым, Артемом Сильвером и Сашей Шардаком. Артур приехал сюда из Краснодара. Как вы с ним познакомились?
— Мы познакомились, когда он позвал меня на выставку в снегу («Червоні тіні / Red Shadows», 2021, — прим. Enter). Она была классной. Во время монтажа мы обматывали ноги целлофаном и скотчем, чтобы можно было ходить по сугробам, потому что стояли тридцатиградусные морозы.
— В ваших мастерских находится выставочное пространство. Можешь подробнее рассказать о нем?
— Осенью 2022 года я стала частью команды Plague (арт-группа и кураторская платформа, появившаяся в 2018 году в Краснодаре и основавшая выставочные пространства Plague space в Краснодаре и Plague Office в Казани, — прим. Enter) и очень счастлива. Считаю, что ребята-участники этого объединения — Артур Голяков, Ваня Венмер, Стас Лобачевский — просто потрясающие художники. В декабре на Гладилова, 51 у нас открылось выставочное пространство Plague Office, которое параллельно является еще и мастерскими художников, и это архиважное событие для культурной жизни Казани. Пока прошла только одна выставка, Plague Expo Show, но честно скажу: запланированные на этот год настолько классные, что пропустить их было бы невероятно опрометчиво.
*Instagram входит в компанию Meta, которая признана в России экстремистской организацией
Текст: Луиза Низамова
Фото: Алиса Сулейманова, Зухра Салахова
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство региона, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. В этот раз героем рубрики стал фотограф Игнат Цоколаев. Enter встретился с Игнатом, чтобы поговорить о вербализации смыслов, современной пейзажной фотографии, психологической стабильности и работе с цветом.
Игнат Цоколаев родился во Владимире в 1990 году. Учился на архитектурно-строительном факультете Владимирского государственного университета. Живет и работает в Казани. Участник выставок: «Дихотомия» (КЦ «Московский», 2022, Казань), «Домовая книга» (ГМИИ РТ, 2022, Казань), «Москва — Казань — Москва» (при поддержке Department of Research Arts, галерея «Царская башня», 2018, Москва) и других.
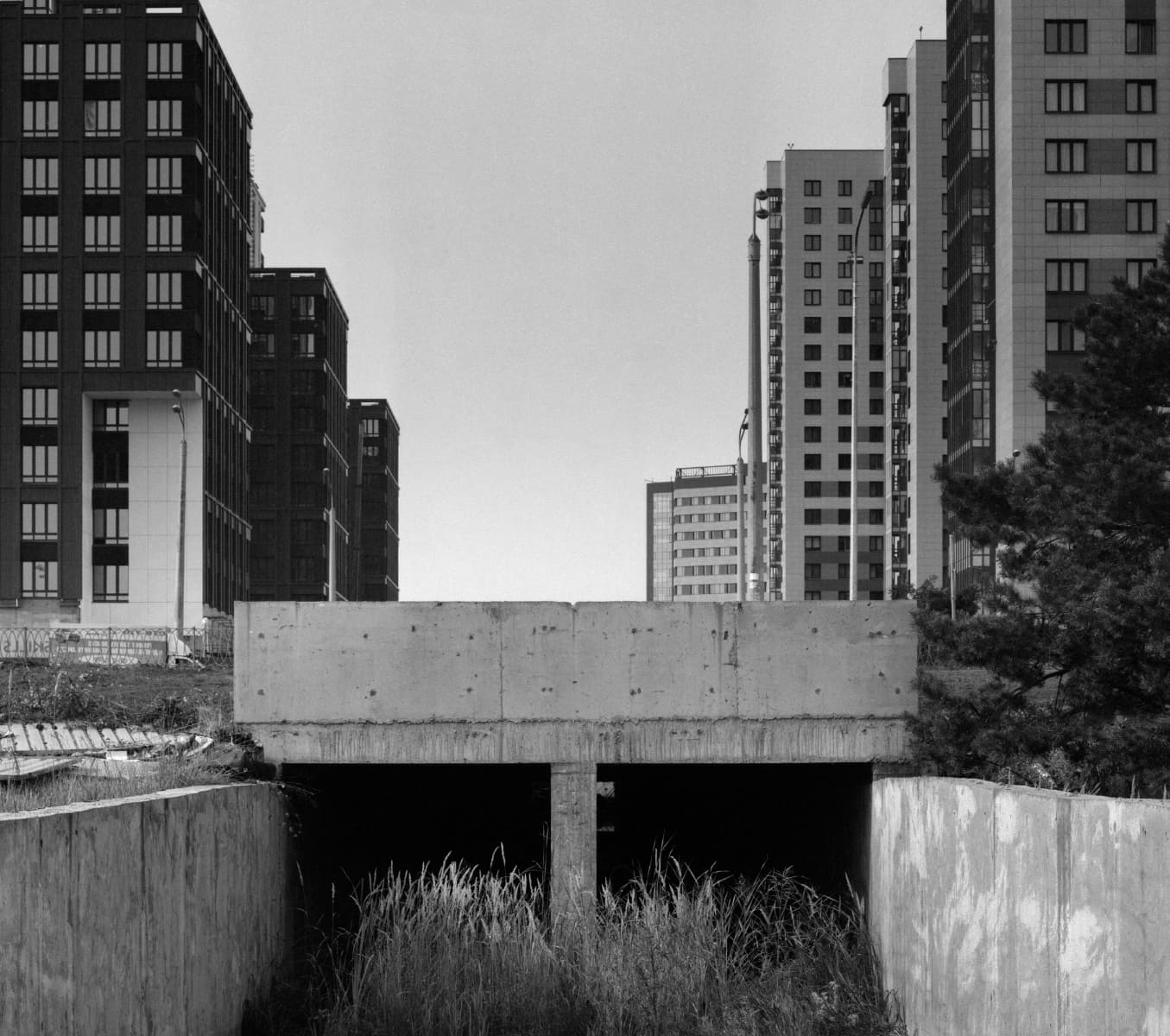
— Когда начались твои отношения с фотографией?
— В 2009-2010 году. Моя тетя увлекалась съемкой на «Смену» (советский маломерный шкальный фотоаппарат, — прим. Enter), снимала семью — бытовая такая фотография. Кроме нее из родных никто не занимался фотографией всерьез. Но если подумать, мой интерес к визуальному искусству проявился еще раньше. У бабушки и дедушки была обширная библиотека с каталогами из советских музеев и европейских галерей — целая комната, занятая книгами. Я просматривал их в очень раннем возрасте, и они стали моим визуальным багажом. Потом я начал снимать бытовые сюжеты на VHS-камеру во время поездок: взрослым надо было заниматься какими-то делами, поэтому камеру давали мне — снимай, что хочешь. Я ходил и кадрировал через оптический видоискатель то, что видел. Мне кажется, с этого все начинается: в голову приходит мысль, что можно вырезать кусочек [реальности], утверждать, что он важен, и заставить кого-то на него смотреть.
В университетские годы приходилось делать много фотофиксаций. Я учился на архитектора, проводил замеры, снимал фасады и помещения для реставрации и реконструкции и использовал камеру-мыльницу, но мне не импонировало то, что она выдает, — не возникало никакого художественного порыва. В то же время одногруппница, которая снимала на «Зенит» (первый однообъективный зеркальный фотоаппарат в СССР, — прим. Enter), показала мне сканы пленки. Хотя это были, как сейчас понимаю, незатейливые вещи, я интуитивно почувствовал, что открыл для себя какой-то другой способ создавать картинки. В голове что-то перевернулось. Я пошел в антикварный магазин, купил себе камеру, начал снимать и больше не останавливался. С тех пор снимаю примерно одни и те же сюжеты, просто разными способами. Сейчас дело дошло до складных деревянных камер с листовой пленкой.
Единственный перерыв в съемках произошел после переезда в Казань, в переходный момент в жизни. Мысли были в кучу. За тот год я отснял, наверное, всего одну пленку. Когда возникает неопределенность по поводу моего дальнейшего пути, я не снимаю.
— Такое состояние мешает тебе снимать?
— Оно становится фундаментом для последующих съемок, но сначала его нужно отрефлексировать.
Сейчас неспокойное время, и есть много причин, чтобы отказаться от выражения мыслей. Многие люди не находят в себе сил [для высказываний], и я их прекрасно понимаю. Не знаю, будет ли мне стыдно за это, но, когда могу, я абстрагируюсь от внешнего и продолжаю снимать. Моя вторая выставка в Казани, «Дихотомия» (выставка, которая включала работы Игната Цоколаева и Антона Малышева и открылась в КЦ «Московский» в 2022 году, — прим. Enter), была во многом про мысли, которые возникали в шоковом состоянии. Мне кажется, жизнь сама по себе — череда страстей, катастроф, негативных и позитивных вещей. Залог психологической стабильности — уходить в то, что мы делаем в обычное время.
— Ты переехал из Владимира в Казань. Почему именно Казань?
— В 2013-м у нас с товарищем была большая фотостудия во Владимире, мы занимались коммерческой съемкой. Ее пришлось закрыть, а затем у нас наметилась съемка в Казани для заказчиков из Москвы. В тот момент мне нужно было сменить обстановку, потому что Владимир — небольшой город, и я отснял его сверху донизу.
Я постоянно ездил в Москву по выставкам и лабораториям, к друзьям, но она слишком всеобъемлющая: пожить там неделю — хорошо, а больше — уже плохо. Казань оказалась оптимальным местом. Город бурно развивался, на него был тренд, появлялись свежие локации. Сейчас, кстати, некоторые из них уже исчезли — я не могу их найти. В 2015-м меня пригласили работать в недавно открывшуюся фотостудию, и все сложилось.
Позже появилась своя фотолаборатория, частная мастерская по проявке и печати пленки и целая команда единомышленников. Пока лаборатория существует, мотивации переезжать нет. Многие знакомые в эмиграции консультируются у меня по поводу выбора камер и пленок: у них появилось свободное время, и они вернулись к занятию фотографией. Каждый зовет меня в свою страну, но я не уверен, что где-то мне будет нравиться работать больше, чем в России. Все больше хочется изучать, что было до нас, работать с локальным материалом. Мне кажется, и в твоей работе [искусствоведа], и в моей [фотографа] важно соприкосновение с материальным источником. Изменения, происходящие в людях и городах, можно почувствовать, только находясь рядом.

— На чем фиксируется твой взгляд как фотографа?
— Чаще всего на контрасте и форме. Контраст притягивает взгляд — как фотографа, так и зрителя — на уровне импульсов в мозге. Если мы повесим в конце зала на выставке большую контрастную картинку, человек побежит туда и, вероятно, не обратит внимания на все остальное. Для съемки мне нужно контрастное освещение. [Поскольку высокий контраст возникает от разницы в яркости предмета] у меня как фотографа со временем сформировалась почти физиологическая зависимость от света, как при недостатке витамина D.
Форма обуславливается бэкграундом автора. Сложно объяснить, как именно она возникает. Наверное, каким-то образом суммируется все, что ты увидел, прочитал и услышал в своей жизни. Определенные моменты выхватываются из памяти и превращаются в картинки, и иногда ты только через годы понимаешь, с чем они были связаны. Ты ощущаешь эмпатию к объектам съемки, как при общении с людьми. Когда контраст и форма соединяются, возникает желание сделать картинку.
— Я как раз хотела спросить об этом.
— Потому что ты думаешь в том же направлении.
— Мне интересно, как формировался твой визуальный язык. Ты уже говорил, что снимаешь одно и то же. Когда я смотрела твои фотографии, то стала вспоминать американских фотографов, которые снимали меняющиеся ландшафты в 1970-х, — Роберта Адамса, например.
— Роберт Адамс — это вообще основа.
— В то же время вы разные: у него более отстраненный взгляд.
— Я бы хотел обладать таким взглядом, с одной стороны. С другой, много лет назад я открыл для себя фотографов Ленинградской школы — Александра Китаева, клуб «Зеркало», Алексея Титаренко, Бориса Смелова, Марию Снигиревскую — и понял, что это моя почва. Я никогда не жил в Петербурге, но мне понятен их визуальный язык. Еще в самом начале на меня повлияла фотография, которую я видел на выставках в Москве — работы американской группы f64 и их последователей, документалистов из «Магнума» типа Алека Сота, а также наших поздних документалистов. Когда я увидел оригинальные отпечатки американских фотографов, начиная с Роберта Адамса и заканчивая Кристофером Беркеттом, у меня просто взорвалась голова. Я много раз посещал те выставки.
Сейчас, когда я вижу подобную фотографию, меня уже не торкает — я понимаю, как это сделано. После Адамса не нужны никакие современные пейзажисты [потому что он сделал в этом жанре все, что было возможно]. Но если ты показываешь пространство, опираясь на свои внутренние ощущения и личный опыт, не пытаясь снимать те же деревья в тех же местах, что и классики, получается совсем другая фотография. Невозможно повторить отснятое 50 лет назад, потому что ощущение мира изменилось.
Я много снимал, ездил в Москву, чтобы проявить отснятые пленки, ходил по галереям, возвращался домой, через неделю приезжал, забирал свои пленки и снова ходил по галереям. Таким образом сначала случилась встреча с вещами, которые оказались мне близки в смысловом отношении, а потом я приобрел инструментарный опыт, то есть начал разбираться в том, как мастера создавали свои снимки. Визуальный и инструментарный опыт наложились друг на друга случайным, но, думаю, правильным образом.
В какой-то момент у меня появился товарищ, который очень любил все делать сам. Он купил оборудование, чтобы делать отпечатки, как у Антона Корбайна, заперся дома и не выходил оттуда, пока не получил нужный результат. После у него пропала мотивация. Он временно закончил заниматься фотографией и передал оборудование мне. Я начал печатать сам, и завертелось.
— Твоя работа зависит от сезона?
— Конечно. Еще от задачи, от веса оборудования, от тепла — много от чего. Со временем хочется прийти к тому, чтобы этой зависимости не было. Раньше летом я много занимался инфракрасной фотографией. Листья отражают тепло и на отпечатке получаются почти белыми, а не отражающее тепло небо — почти черным. [Фотограф Борис] Смелов тоже занимался такой съемкой. В чистом виде, на мой взгляд, это тупиковая ветвь в фотографии, но она может стать инструментом достижения других результатов, например, вариаций яркости и полутонов в кадре.
Зима хороша тем, что можно выйти в четыре часа дня и снимать какие-то сцены без людей — за счет длинной выдержки они просто размазываются. Но если я захочу снять конкретное место, скорее всего, время года на мое решение влиять не будет. Осень в качестве периода для съемок — не мое: хоть разноцветные листочки и красивы, это тупиковая история. Как правило, возможности такого классического пейзажа быстро исчерпываются.

— Ты не снимаешь сериями — если они у тебя и есть, то они получаются…
— Спонтанными. Даже если сделать фотографию у себя дома, то она никогда не останется одиночной. Просто вместо нескольких дней или месяцев, которые обычно уходят на отдельный, специально задуманный проект, эта серия будет снята за десять лет, но зато более выверено и прочувствованно. Когда мне нравится какое-то место, я прихожу туда снимать несколько лет подряд — и снова получается серия.
В то же время серия может организоваться и иным образом, когда картинки случайно подружились смыслово, композиционно и сюжетно — например, при развеске работ на выставке. Подход, при котором изображения сняты за определенное время в определенном месте, свойственен фотодокументалистике. Я не занимаюсь такой съемкой намеренно, потому что техника, с которой я работаю, не имеет характеристик, позволяющих бегать и что-то выхватывать. Мне интереснее получать готовую картинку на матовом стекле камеры. Она четче передает мысль. В моем случае серии складываются в течение нескольких месяцев или года, иногда — нескольких лет.
— Ты сам печатаешь свои фотографии.
— Стараюсь.
— И ты можешь печатать с негатива несколько раз, пока результат не будет соответствовать твоему представлению о том, как должен выглядеть отпечаток. Оно складывается, когда ты снимаешь, или когда ты уже видишь, что у тебя получается при проявке и печати?
— Хороший вопрос. Зайду издалека. Понятие визуализации было сформулировано еще до Второй мировой. Полная визуализация происходит, когда фотограф может представить себе финальный отпечаток в момент съемки сюжета. Примерно понимая технические возможности того или иного материала, я знаю, как картинка будет выглядеть относительно геометрии пространства, яркости и пятен, но относительно контраста — чаще всего нет. Полная визуализация невозможна: я не могу предугадать, как ляжет свет и как пойдет почернение серебра. Всегда есть «рука Бога».
На заре появления аналоговой фотографии с возможностью тиражирования снимка реализация творческой задумки фотографа была сильно ограничена характеристиками оптики и фотопленки. А сейчас, спустя годы, современные аналоговые фотографы имеют под рукой весь инструментарий старинной и современной техники, и их возможности намного шире. Разные технологии — всего лишь инструменты воздействия на зрителя.
По причине дороговизны современной фотобумаги для обычной полутоновой печати с контролируемым контрастом я постепенно прихожу к lith-печати (разновидность желатиносеребряной черно-белой фотопечати, при которой можно получить практически неограниченные возможности для управления контрастом и тональностью отпечатка, — прим. Enter). Я становлюсь заложником ее технических возможностей, ведь для создания нужного отпечатка иногда требуется потратить много листов. Можно очень хорошо представлять, какой отпечаток хочется получить, но бумага и способ печати вносят в изображение свои коррективы. И все же нужно стремиться к сближению между картинкой из головы и готовым отпечатком. Если кадр тебе нравится и ты четко себе представляешь его идеальный отпечаток, то все равно доведешь кадр до этого состояния — просто нужно знание техник и много времени.
— Аналоговая технология привлекает тебя широким диапазоном возможностей для получения изображений или чем-то иным?
— Наоборот, аналоговая технология сильно ограничивает во всех отношениях: начиная выбором способа, как добраться до места съемки, и заканчивая временем, которое необходимо потратить, чтобы сделать финальный отпечаток. Она просто стала для меня привычкой. Поработав с разными камерами, я стал отдавать предпочтение съемке на большой формат, потому что могу выстроить кадр при съемке ровно так, как мне нужно, от начала и до конца. Чтобы достичь желаемого результата, подбираются объективы и пленки. Сейчас у меня есть инструментарий для создания практически любой картинки.
Что касается более простых камер, то тут я выбираю Rolleiflex, как у Вивьен Майер. Она идеальна для повседневной съемки и создает в кадре определенный образ, воздух, объем. У нее есть свои удобства и нюансы: малый вес, относительная незаметность при съемке, угол зрения, который подходит для большинства сюжетов.
Многие разговоры про пленку связаны с некими ожиданиями. Я консультирую людей, снимающих на очень дорогие камеры, — зачастую они хотят непохожести на цифру, необычной картинки, которую за них сделает пленка. Но это желание вдохновляет только первое время. В пленке хороши другие свойства, и понять их, если ты берешь камеру впервые или снимаешь год-два, невозможно. Отношения с пленкой похожи на отношения с местом: когда обрастаешь кругом знакомств и возможностей, только спустя годы понимаешь, зачем это было тебе нужно. Сейчас материалов все меньше, стоят они дороже, и стало меньше возможностей приобрести опыт, набивая шишки, как я в свое время. Я честно говорю об этом всем, кто со мной советуется.

— Твой набор техники складывался интуитивно или ты изначально знал, что тебе нужно? Какие у тебя самые часто используемые камеры?
— Представь: ты идешь по улице, смотришь по сторонам или на человека, и твой глаз выцепляет единственную точку в пространстве, с которой надо снимать. Если ты сдвинешься хотя бы на миллиметр, композиционная гармония пропадет. В следующие пять минут твоя задача — выбрать инструмент и поместить объектив в нужную точку. У инструмента должны быть определенные характеристики. Никто заранее не знает, что ему понадобится, так что камеры и все остальное подбирается в течение многих лет, в идеале — всей жизни. Сейчас у меня кое-что есть, но через год я, скорее всего, пойму, что именно нужно еще — или наоборот, от чего можно отказаться.
Есть камеры, которые состоят, по сути, из двух пластин: на одной объектив, на другой пленка. Между ними гофрированный мех. Я как раз снимаю на такую камеру. Это максимально допотопная история с точки зрения технологии. Изображение там дается на матированное стекло, его проекция переворачивается вверх ногами, так же, как в камерах, на которые снимали Атже или Тальбот. У них самые широкие возможности, потому что можно двигать объектив во всех плоскостях и пленку относительно объектива. В цифре такие манипуляции доступны, но, как правило, на постобработке либо с помощью применения дорогой техники. Деревянные камеры, подобные тем, которыми пользовался Атже, теперь дошли до таких масштабов (показывает камеру Chamonix 4×5«, — прим. Enter). В вопросе изобретений в сфере фотографической техники человечество вернулось к тому, от чего отталкивалось.
— Ты редко работаешь с цветом. Почему ты выбираешь черно-белую пленку?
— Отчасти в связи с тем, что в основном я снимаю форму. Когда работаешь с цветом, начинаешь больше думать о цветовых контрастах, а их еще нужно найти. Тут все архисложно: я не могу представить, каким цвет окажется при его затемнении вечером. Для этого нужен гигантский опыт.
Люди, которые создавали цветную пленку, составили ее формулу на основе психологических тестов, то есть она изначально хочет понравиться зрителю и выдает некое желаемое за действительное. Но не факт, что объекты на изображении на самом деле так выглядели. С черно-белой пленкой манипуляция проявляется на уровне контраста. Если бы она показывала нам контраст, который мы видим глазами, то изображение выглядело бы скучным. Правда, не во всех случаях. Контраст в черно-белой пленке можно сделать почти любым, иногда — очень высоким, что не всегда уместно в цветной фотографии. Еще одна причина — цена цветной пленки. Но если я решаю, что буду с ней работать, вопрос цены отпадает.
— У тебя есть любимые кадры? Или самые запомнившиеся?
— Не хочу романтизировать съемку на пленку, но каждый кадр [в моем случае] становится ожиданием. С ним связана история, и я ее запоминаю — вот что интересно. Как-то раз я поставил эксперимент: полгода снимал простыми цифровыми методами и поймал себя на мысли, что не помню ни одного кадра. Пленочные кадры я помню практически все без исключений. В них присутствует определенное усилие. На самом деле пленка не дисциплинирует так, как о ней принято говорить, поэтому я до конца не понимаю, как это работает.
Любимых кадров у меня полно. Многие появляются во время случайных походов, так что я благодарен находкам и удаче. Иногда меня будто что-то выгоняет из дома, и я иду снимать. Бывает, мне снятся места, и я понимаю, что завтра нужно туда пойти.
— Ты занимаешься фотографией больше десяти лет. Если оглянуться назад, менялся ли с течением времени смысл, который ты вкладывал в свои работы?
— У меня не бывает никаких продуманных месседжей, они всегда случайные. Мы меняемся как личности, и обнаруженные смыслы обрастают комом новых переживаний. Визуализируются ли эти изменения в фотографии? Наверное, со временем да. Я слежу за общением людей в узком фотографическом сообществе, и меня пугает четкость их размышлений. Они глубоко убеждены в своей точке зрения касательно тех же смыслов, но мне кажется, что все находится в движении.
О смыслах снятых картинок можно рассуждать, а еще не снятых — нет, потому что смысл в них привносит событийность. Думаешь, что все уже снято, но новый день приносит новые картинки или зрительные стимулы. Я удивляюсь этому всякий раз.
Каждая попытка словесно описать смысл изображенного сужает возможности интерпретации для зрителя. То, что увидит на фотографии человек с мироощущением, близким к автору, и будет правдой. Ты же хорошо представляешь работы Алексея Титаренко? Когда он пытается их описать, то обращается к литературе, Достоевскому, Прусту. Но когда проговаривает простые и очевидные смыслы о сопереживании нищим людям, которые в 1990-х ходили по улицам Петербурга, я задаюсь вопросом: зачем это нужно?
Лучшая аналогия моим фотографиям — образы из снов и метафоры. Но хочу, чтобы зритель увидел в них что-то свое.
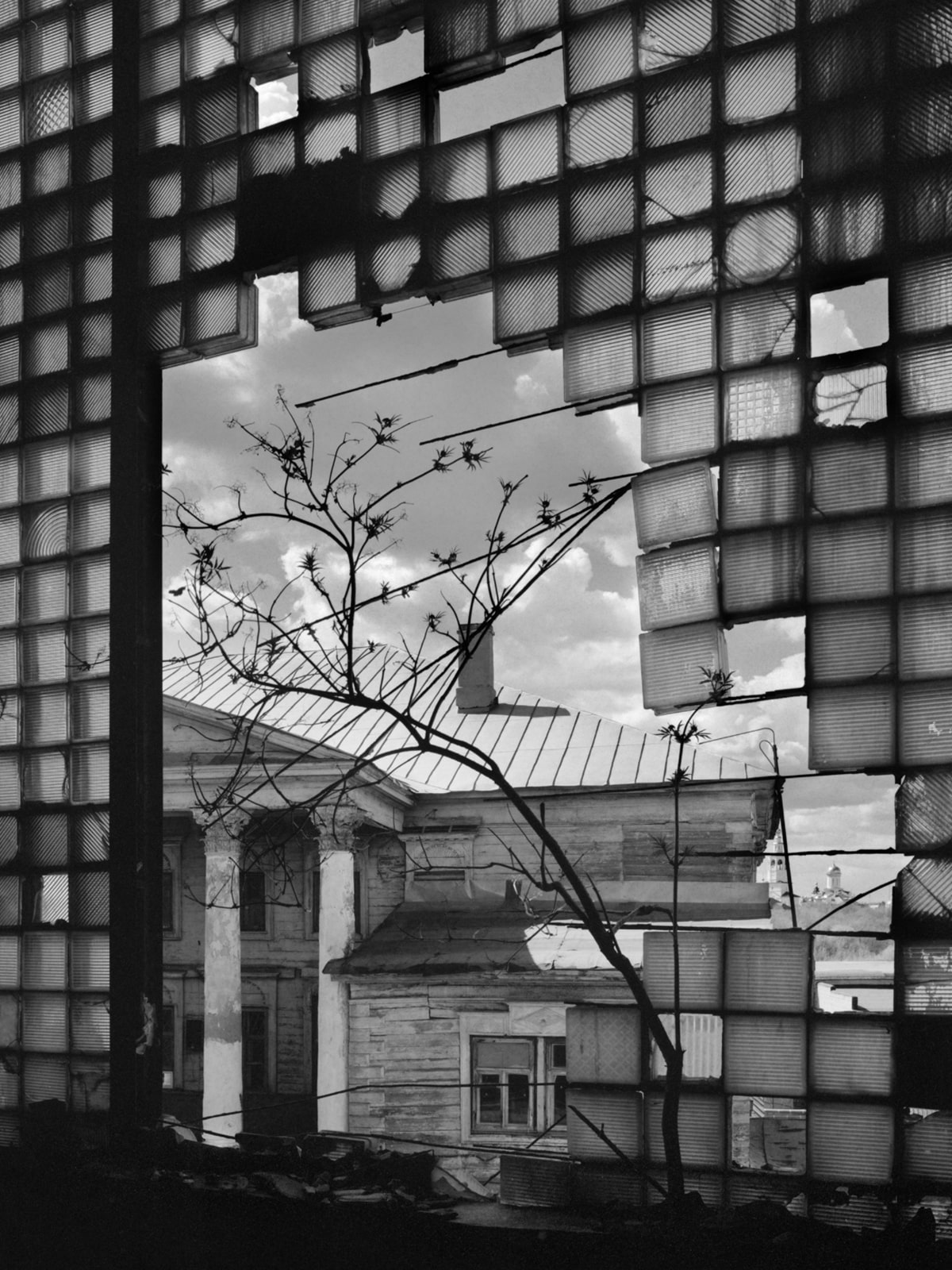

— Я заметила, что фотография для тебя часто становится поводом для разговора о более глобальных вещах. Эта черта была у тебя всегда, или фотография помогла ее выразить?
— Наверное, она появилась со временем. Фотография помогает смотреть живопись, слушать музыку, смотреть кино, а они, в свою очередь, помогают снимать по-другому. Еще до занятий фотографией и задолго до учебы на архитектора я рисовал много графики, так что увиденное и визуализированное для меня — единственный инструмент самовыражения. В цепочке «графика-архитектура-фотография» самое главное для меня — образ.
У меня достаточно учеников, которым я помогал освоить технику. Я старался не давать им философию, потому что считал, что у них должна быть своя и только отвечал на их вопрос «Как это сделать [технически]?» Но люди настолько глубоко погружались в техническую сторону, что начинала страдать содержательная сторона. Ничего нового не создается, а ведь важно созидать.
— У тебя есть потребность обсуждать фотографию с кем-то?
— Раньше была, и я много обсуждал ее с фотографами. Сейчас пришел к тому, что фотографию нужно обсуждать с кураторами и художниками, потому что с фотографами обсуждения уйдут в сторону техники: тебя разберут на куски, а в конце вы подеретесь. Куда полезнее обсуждать смысловой аспект фотографии — другой опыт всегда интересен, а художники действительно видят все иначе. Лучший совет фотографам — перестаньте общаться с другими фотографами после того, как освоили инструментарий. Фотографа из себя надо вытравлять.
— Мой преподаватель по истории видеоарта говорил, что фотография пахнет смертью.
— В целом я согласен, хотя на самом деле не всякая. Знаешь, какая фотография пахнет смертью? Снятая на очень короткой выдержке. В современной студийной фотографии вспышка срабатывает за тысячные доли секунды, и мышцы лица замирают [в кадре]. Раньше в фотокамерах затвор срабатывал за несколько секунд, лицо успевало подвигаться и человек оставался живым.
Сегодня остается все меньше потребности создавать что-то руками, и фотография приобретает характер музейного экспоната или дневника, который повествует о некоем зафиксированном времени. Возможно, это свойство моего характера, но мне приятно вспоминать о прошлом.
С точки зрения новых художественных возможностей фотография умерла в 1980-х. Началась коммерческая фотография, а из нее родилась современная художественная в духе Джеффа Уолла. Даже Дюссельдорфская школа находится на стыке художественной и коммерческой.
— Кажется, фотографию сегодня сложно приводить в качестве свидетельства.
— Есть способы проверить подлинность снимка. Кстати, снимок, полученный с помощью желатиносеребряного процесса, — если автор не совершал с изображением каких-либо манипуляций, — самый настоящий документ.
Фотографии предоставлены Игнатом Цоколаевым
Продолжаем знакомить с молодым искусством и рассказывать о местных художественных процессах, их героях и художественных стратегиях в рубрике «Артгид». На этот раз героиней стала художница Стася Ибрагим, участница «Кажется, будет выставка в Казани» в «Смене» и прошедшей в январе ярмарки современного искусства в Belova Art Gallery. Enter встретился с ней, чтобы поговорить о ее коллажах, созданных во время пандемии, искусстве будущего и красоте обыденного.

Фотопортрет Стаси Ибрагим
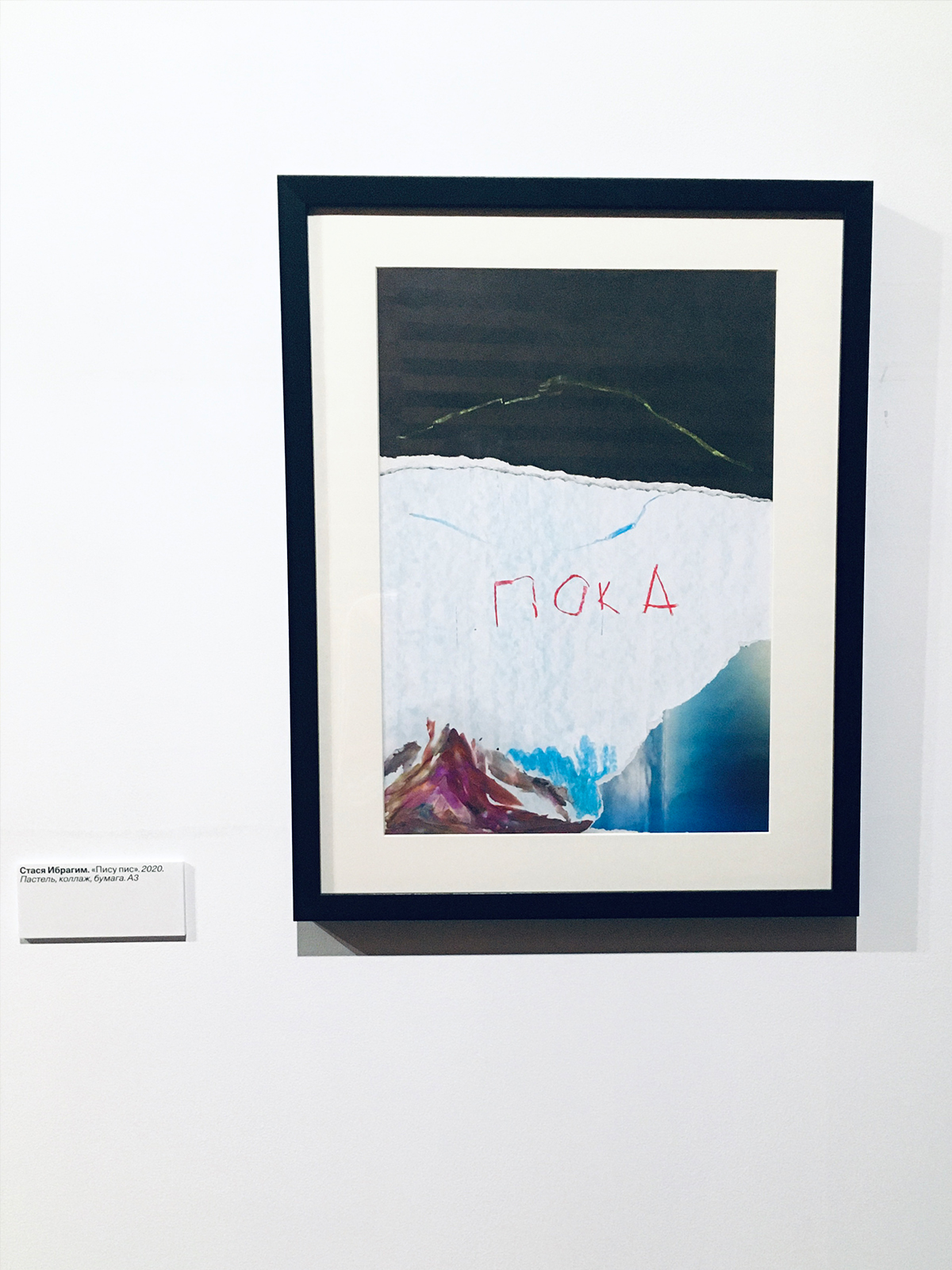
«Пока», 2021, смешанная техника
Стася Ибрагим родилась в 1986 году в Казани. Окончила факультет дизайна КГАСУ, где сегодня работает старшим преподавателем. В 2018 году завершила аспирантуру по специальности «Искусствоведение». Многие в Казани знают Стасю по лаконичной фотографии архитектуры и повседневной жизни, которую она начала выставлять еще в 2010-х годах. Ранее художница работала с живописью и графикой, а последние полтора года сосредоточилась на коллаже (или смешанной технике). Выставки Стаси Ибрагим проходили в России и Испании.

Фото с выставки в Belova Art Gallery
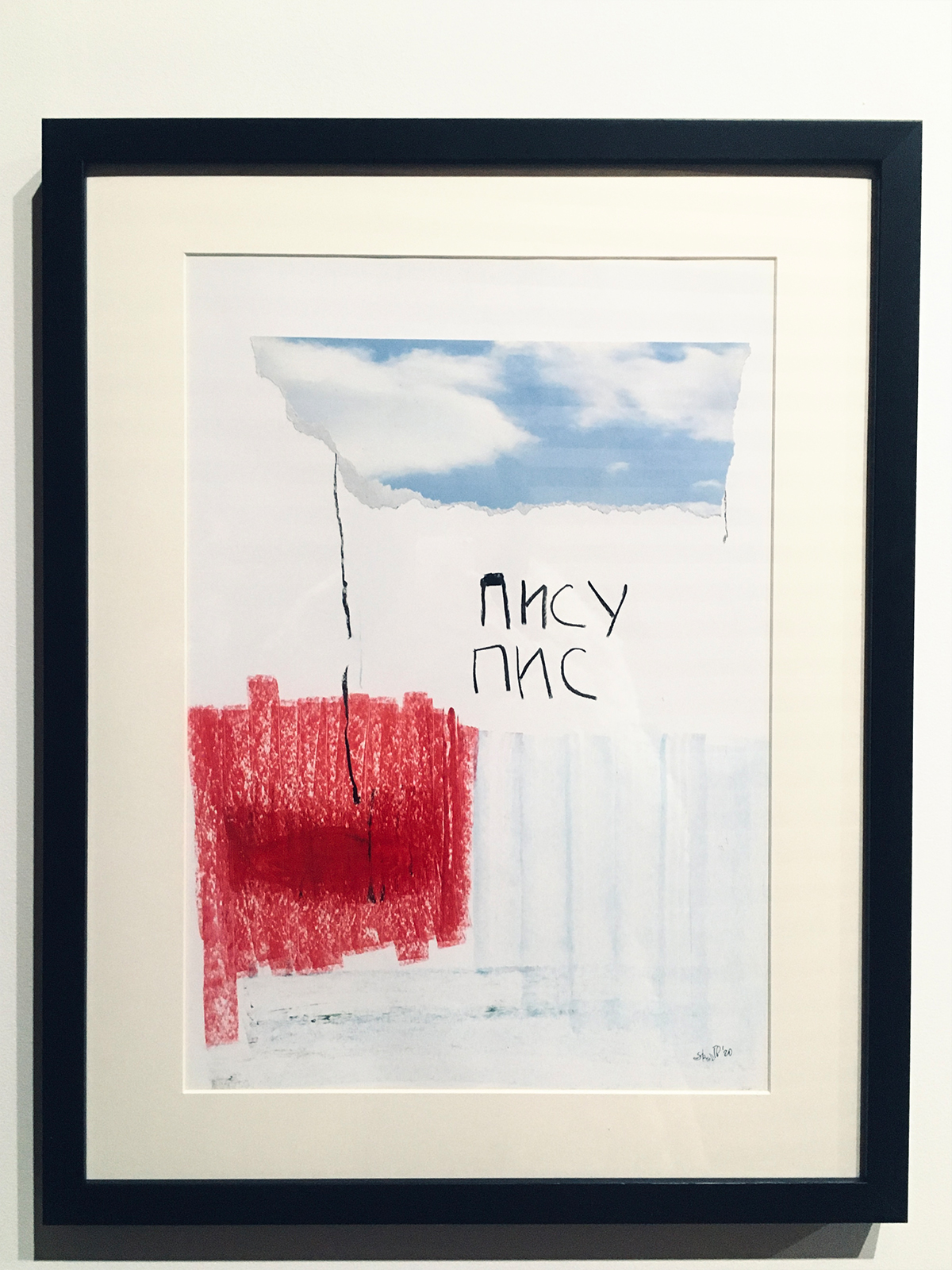
«Пису Пис», 2020, смешанная техника
— На ярмарке современного искусства, которая недавно прошла в Belova Art Gallery, и на выставке в «Смене» ты представила коллажи. Можешь рассказать о них подробнее? Ты говорила, что эта серия началась во время пандемии.
— Действительно, пандемия дала повод задуматься о творчестве, и в какой-то момент я пришла к структурированному видению. Это было настоящим озарением. «Неосознанное», случайное искусство — неудачные граффити; баффинг (по определению Института исследования стрит-арта, субкультурный термин, обозначающий уничтожение граффити представителями коммунальных служб, — прим. Enter); разорванные ветром старые объявления, — довольно давно вызывают во мне чувство восхищения. Я удивляюсь: как можно делать так удачно по композиции, по цвету и форме? Понимаю, что такое искусство — абсолютно не спланированное, и тем не менее, оно выглядит самодостаточно.
Ведя блог и фотографируя, я пыталась вынести случайное искусство на обсуждение. Но только обсуждений мне было мало: казалось, что для читателей такой материал был всего лишь чем-то забавным и ничего более. В пандемию я решила пойти дальше и попробовать сделать [коллажи] так же здорово, как делают «неосознанное» искусство улиц, и тем самым перевести его в рамку осознанного. Стала делать эскизы, пытаясь сымитировать увиденное на улицах. Для меня оно было недосягаемой точкой, но казалось, что именно через попытку подражания ему будет проще объяснить зрителю мое восхищение таким искусством. Потому что если просто фотографировать, ты выступаешь всего лишь документалистом.
— Почему сейчас ты выбираешь именно коллаж, а не что-то другое?
— Случайное искусство очень коллажное по своей форме [и имитируя, я копирую его форму в том числе]. С другой стороны, я выбираю коллаж, потому что этот банальный инструмент изобразительного искусства ХХ века близок мне и по смыслу, и по удобству. Что важно, я стараюсь уходить от слова «коллаж», вместо этого стараясь оперировать [более корректным] понятием «смешанная техника», поскольку использую не только бумагу, но и пастель с краской. Но думаю, нашей публике «коллаж» будет понятнее.
— Откуда берется материал для твоих коллажей?
— Как любитель поп-арта, я считаю прекрасным все, что нас окружает. Случайное искусство — тоже об этом. Ты удивишься, но я ни разу не купила ни цветную бумагу, ни даже какие-нибудь наклейки. Все собирается стихийным образом, находится на полке, под руками и ногами: я часто обращаю внимание на разные материалы, которые находятся под руками, под ногами, на полке и думаю, могут ли они пригодиться и есть ли в них душа и потенциал. Бывает, использую детские рисунки, и мне очень нравится с ними работать, потому что это вообще не моих рук дело. Вообще, в коллаже я больше доделываю, чем создаю с нуля: работаю краской, пастелью, добавляю тексты, а лично моих рисунков там присутствует всего пять процентов.

В 2013-м году Стася создала серию черно-белых фотографий, в которых стремилась свести обыденные формы к знаку. Здесь — фотография Madrid с выставки DOM, 2013
— Ты занималась и фотографией, и графикой, была и живопись. Есть ли что-то, что объединяет твои работы?
— Общим является моя попытка вырвать обыденный объект из контекста и довести его до независимого знака. Например, можно вспомнить выставку моей черно-белой архитектурной фотографии в начале 2010-х годов, которая проходила в Испании и здесь. Казалось бы, ну кто не фотографирует архитектуру? Меня же трясло от удовольствия, если здание в моем объективе становилось неузнаваемым. Я брала предмет из окружающей действительности, пропускала его через «сито» своего глаза и делала из него новый объект или назначала ему новую функцию.
Еще в 2014-м году была выставка фотографии в клубе «Бонифаций». Я фотографировала грузовые контейнеры — большие, как на рынке. На одном из них краской замазали номер, и поверх фотографии я наложила простые геометрические фигуры. Получился фотоколлаж. Что это, если не преобразование объекта в абстрактный? Тогда техника была несколько иной, чем сейчас, но смысл один и тот же.
— Ты преподаешь в университете и закончила аспирантуру по истории искусства. Зачем художнику такой опыт?
— Говоря откровенно, я не знаю, кем являюсь, — художником, искусствоведом или преподом. Разграничить эти три области я не могу, поскольку в [моей жизни] все происходило плавно, — начиная с десяти лет, когда я тайком поступила в художественную школу. Предположу, что люди часто думают, раз ты знаешь историю искусства, значит, копируешь увиденное, — а создать новое не можешь. У меня нет такой проблемы: я считаю, все уже изобретено, и стоит делать то, что считаешь нужным. Знание искусства, опыт преподавания и умение делать что-то своими руками делают из меня этакого трехглавого дракона и обогащают меня как автора. Я не планирую от этого отказываться и хочу стать, может быть, драконом с еще большим количеством голов. Есть неплохие художники, которые считают, что все это глупости, но я бы не смогла обойтись без знания искусства. Когда ты претендуешь быть одним на миллион, важна насмотренность.
— Чему посвящена твоя диссертация?
— Феномену и принципам формообразования городской скульптуры. Тема диссертации тянется за мной еще с выпуска из института, и основная ее идея состоит в том, чтобы расставить точки в понятиях «стрит-арт», «паблик-арт», «городская скульптура», «инсталляция», «арт-объект» и так далее. Из-за пандемии не удалось собрать диссертационный совет, но я планирую защититься в этом году, чтобы над головой дракона-искусствоведа выросла корона.
— А на примере каких стран ты все это разбираешь? У нас с этим материалом скудно…
— Я скачу по основным современным точкам в Европе и США [в которых искусство в городском пространстве наиболее развито], про Россию говорю только вскользь. Но за два года, пока я занимаюсь этой работой, столько всего понастроили, что нужно писать новые главы. Общие тенденции городской скульптуры в России постепенно догоняют общемировые. Нужен ли тот же паблик-арт нашей стране, я даже не знаю: мне кажется, у нас развитие городской среды происходит иным образом.

В проекте «Кажется, будет выставка в Казани» Стася Ибрагим показала работы в смешанной технике, созданные в 2020-2021 годах. На фото «БОСС» и «Портрет», обе работы выполнены в смешанной технике в 2020 году
— У тебя не возникало мыслей заняться уличным искусством?
— Такой опыт уже был в раннем юношестве. Если говорить про «сейчас», я бы занималась самым хулиганским, простым, агрессивным уличным искусством. Но я не могу: у меня семья, дети. А муралы вызывают чувство тошноты — из них я бы оставила только советские и мексиканские.
— Аргумент в пользу того, что мурал может украсить серую «панельку» и оживить ее, на твой взгляд, не убедителен?
— Стремление решить проблемы с благоустройством путем разбития трех клумб и создания муралов кажется мне поверхностным, ведь для каждого предмета существуют свои место и время. Серый дом с такой же серой душой не становится другим, когда на него «надевают» мурал — он становится домом с муралом, чьи цели и задачи не ясны. Вообще, мурал — историчное понятие, связанное с южноамериканским искусством начала ХХ века [и это слово некорректно употреблять по отношению к росписям, которые создаются в наши дни].
— Поэтому сейчас некоторые исследователи используют термин «неомурализм».
— Я голосую «за». Тогда пусть неомуралисты живут как хотят — у них свой мир.
— Менялось ли твое самоощущение как художницы с течением времени?
— Сомнений в себе как в художнице у меня не было — спасибо знанию истории искусства. Искусство — это когда отражаешь то, что видишь вокруг, пропускаешь через себя и утверждаешь, что ты художник. Если человек приходит к такому пониманию, на этом можно успокоиться. Мне кажется, тот, кто сомневается, художник он или нет, на самом деле переживает, нравится ли другим его творчество и воспринимают ли его как художника. Может быть, так проявляется скромность.
Осознание себя как художницы пришло, наверное, после учебы в университете, когда я начала создавать работы не ради галочки и не по просьбе, а потому что не могла иначе. К тому времени у меня появилось время на творчество и нечто внутри, что позволило начать высказываться. Еще один важный момент, который позволяет маркировать себя как художника, — желание делиться, транслировать публике свое высказывание. Когда ты хочешь что-то сказать и у тебя получается, ты художник.
— Некоторые художники в своем творчестве занимают метапозицию — как бы отстраняются, исключают себя из повествования и смотрят на искусство как на исследование. Какую позицию занимаешь ты? Есть ли в твоих работах личное?
— Позиция наблюдателя кажется мне красивой, но ложной. Не понимаю, как можно создавать искусство и оставаться объективным. Думаю, оно [подразумевает] портрет автора, который обнажается и показывает свои чувства и восприятие. Все, что я делаю, очень субъективное, личное, смелое и искреннее. Даже если я пытаюсь систематизировать что-то для будущего проекта, то тоже пропускаю [информацию] через свою призму. Может быть, позиция наблюдателя более актуальна для концептуального искусства или искусства, которое затрагивает социальные вопросы. Я в данный момент от такого далека.

В 2014-м году в клубе «Бонифаций» у Стаси Ибрагим прошла выставка «#4», где она обратилась к фотоколлажу
— Многим художникам задают вопрос: а как ты вдохновляешься?
— …И все ждут, что ты скажешь: «Выпил две рюмки, и пошло-полетело». Этот вопрос обывательский, но правильный, потому что является попыткой понять метод. Могу сказать, что вдохновение у меня бывает. Точно знаю: если сяду за работу прямо сейчас, у меня ничего не получится, потому что внутри пусто и голова занята другим. А иногда лежишь и думаешь: «Насть, встань с кровати, ты сейчас точно сможешь что-то сделать, и получится супер».
Может быть, вдохновение — гормональный процесс, нечто на химическом уровне. Я его не регулирую, хотя некоторые художники занимаются этим. У меня есть разные методы [получения вдохновения], — например, поехать отдыхать. В суете и рутине ничего не появится, нужен перерыв. Бывает, в момент вдохновения у меня нет материала, а иногда я просто не могу видеть холсты и они стоят целый месяц. Вдохновение — не чудо, не волшебство, это — человеческая природа.
— Что думаешь о будущем искусства и в частности NFT?
— Круто, если форма искусства связана с высказыванием и имеет смысл, — и тогда неважно, новая она или старая. Но если [NFT] производится только ради денег, то это просто прибыль из ничего, а не искусство. На данном этапе я еще не пробовала эту технологию и пока у меня нет желания в этом участвовать. Я консерватор, и тем не менее, мне нравится, что происходит движение, области искусства расширяются и мы, самые разные художники, оказываемся братьями друг другу. Чем больше процессов [в искусстве] происходит, тем ярче становятся его участники. А хорошее всегда всплывет и останется во времени.
— Как ты относишься к нашему времени?
— Как к данности. Я благодарна тому, как все складывается и мне бы не хотелось перемен. Сейчас [у художников] достаточно много свободы: можно выбрать любой инструмент, материал, концепцию. Наверное, в нашем времени отсутствуют такие вещи, как трепетность и сожаление. Нет ощущения, будто что-то исчезнет, потому что многое можно создать заново. Еще не хватает уникальности. Мне кажется, это расплата за свободу, за границы, которые постоянно расширяются, за равенство.
Фотографии: Анна Соколова; предоставлены Стасей Ибрагим
Этой осенью в павильоне подземного на станции метро «Яшьлек» обосновалась инсталляция художниц Neji201 и Анастасии Шепетины. Ее название — «Оазис» — можно понимать и в прямом, и в переносном смысле: современное искусство на улицах города все еще остается редким явлением.
Работа, которую можно увидеть до 20 октября, соединила в себе надувной бассейн с водой в неоновых оттенках и абстрактную живопись и райский пейзаж из пластика. Мы поговорили с ее авторами об искусстве в галереях и подземке и месте сюрреализма в нашей жизни.

Инсталляция является дополнением к вашей работе, которая сейчас представлена в «Хазинэ» на выставке «Бестиарий». Почему вам оказалась близка тема бестиария?
Neji201: Сначала мы прошли отбор в «Арт-мастерских», которые организовал Творческий союз художников, и только после этого нам объявили тему. Эту концепцию придумал художник Евгений Семенов. Его главная мысль заключалась в том, чтобы представить идею выставки как загадку без ключа и дать возможность участникам этого проекта поразмышлять на тему бестиария в актуальной культуре. Тема сама выбрала нас, и я думаю, что получилось очень интересно. Мы с Настей продолжаем работать над ней уже для следующей выставки.
Анастасия Шепетина: Мы изначально хотели придумать продолжение истории в «Хазинэ». И поскольку я из Москвы, решили представить этакую финализацию идей, которые пришли за время выставки «Бестиарий», именно там. На подготовку у нас есть полтора месяца.
Neji201: Новое произведение будет продолжением «Оазиса», который, в свою очередь, стал продолжением «Бестиария».
К каким мыслям вы пришли, пока работали над «Садом»? Что оказалось главным?
Neji201: Главное — что я нашла Анастасию во время этого проекта.
Анастасия Шепетина: Мы из разных сред и при других обстоятельствах могли бы не встретиться. Именно встреча подарила нам вдохновение, на котором завязалась вся дальнейшая работа.
Neji201: Проект запустился еще в марте, и у нас было много времени, чтобы проанализировать тему бестиария с разных сторон. В моей практике такое бывает редко — обычно с момента начала работы над выставкой до ее открытия остается очень мало времени.
Теперь про саму инсталляцию. В ней угадываются черты, свойственные живописи Нели (Neji201, — прим. Enter) — интенсивность цвета, абстрактность, коллажность, сюрреалистичность. Как вы бы объяснили обычным людям, далеким от современного искусства, смысл «Оазиса»?
Neji201: Думаю, инсталляция не сильно выбивается из реальности в визуальном и смысловом отношении, ведь сама наша жизнь довольно сюрреалистична. Все искусство рассказывает о жизни: мы его часть, и считать себя далеким от него — абсолютное заблуждение. Наша инсталляция — такое яркое пятно и напоминание о том, что все вокруг нас происходит очень странным образом.
Анастасия Шепетина: Когда мы создавали работу, я вспоминала о «Фонтане» Дюшана. После него художники стали пытаться какими-то обыденными вещами показывать, что искусство может быть еще и таким. До определенного времени я не могла считать себя художником, поскольку искренне считала, что искусство — не для масс, а ориентироваться на большое количество людей — прерогатива дизайна. Но в процессе создания «Оазиса» я поняла, что искусство должно быть понятным для всех.
Во время монтажа инсталляции к нам подошел мужчина и спросил, где можно купить такие классные трубы. А потом его заинтересовало их использование не по назначению. Это заставило его задуматься: а что еще в себе скрывают эти трубы? Таким образом мы смогли показать большой аудитории, что современное искусство может вдохновлять всех нас.
Neji201: Еще мы встретили великолепного электрика Сергея, который в воскресенье прибежал на работу только потому, что услышал о монтаже инсталляции. Он восторженно сказал, что никогда не получал таких необычных заказов, и здорово, что мы из привычных вещей создали это безумие — просил делать подобные вещи и дальше. Столько же радостных эмоций мы получали от людей, которые проходили мимо в течение трех дней, пока мы занимались монтажом. К нам даже заходили полицейские и пытались помочь.
Как вы выбирали помещение для экспонирования инсталляции? Почему именно подземка?
Neji201: В последнее время у меня проходило много выставок в галереях с белоснежными стенами — тот же «Бестиарий» в «Хазинэ». Захотелось сменить эти стены на темный прохладный переход и показать людям, которые, может быть, не ходят на выставки, что искусство совсем рядом. Сделать «Оазис» точкой отсчета.
Идея разместить работу в подземном переходе существует уже с конца июля. Изначально мы планировали сделать это около «Корстона», потому что мне очень нравилась линейность пространства. Все было обговорено заранее, но когда Анастасия летела на монтаж в Казань, арендодатель просто перестал отвечать. В результате пока мы ехали из аэропорта в город, я звонила по объявлениям. Найденное пространство в подземке на станции «Яшьлек» нам понравилось гораздо больше, чем первоначальное у «Корстона», но пришлось немного изменить инсталляцию под новое пространство.
Как вам кажется, почему в публичном пространстве в Казании почти всегда появляются работы консервативного толка? Вспомнить хотя бы скульптурную группу «Яратам» на пересечении улиц Чернышевского и Профсоюзной.
Neji201: Такие скульптуры появляются, потому что на них существует запрос. Людям нужно больше насмотренности.
Анастасия Шепетина: Размещение любого произведения в публичной среде должно быть согласовано с администрацией города. Чаще всего она достаточно консервативно относится к нововведениям, многие боятся хайпа. Администрация по-своему хочет оставлять хорошее впечатление среди горожан, а более смелое искусство может быть встречено неоднозначно. Когда мы работали над «Оазисом», нам повезло, что мы могли делать все без согласования.
Как нужно работать, чтобы в городе появлялось больше качественных произведений современного искусства? Что надо делать?
Анастасия Шепетина: Во-первых, художники сами должны идти и предлагать идеи. Но в отсутствие инфраструктуры мы зачастую не знаем, к кому. Даже сидя в Строгановской академии (художница продолжает там учиться и преподает, прим. Enter), я не знаю, куда обратиться за поддержкой проектов современного искусства. Должны существовать платформы, где художники могут работать, не боясь высказываться.
Neji201: Нам нужно быть смелее.
В чем сила искусства?
Neji201: Искусство — как мелодия, потому что разговаривает без слов. В этом его воздействие и сила.
Анастасия Шепетина: И в эмоциях, которые оно способно вызвать.
Изображения: Руди Лин
Этой весной на улице Кремлевской появилось новое место, которое знакомит зрителя с локальным современным искусством, — Belova Art Gallery. Галерея открылась на базе дизайнерского дома архитектора Веры Беловой, которая по совместительству является ее художественным руководителем, и уже показала работы Катерины Конюховой и Тимофея Зверко. А сейчас там проходит выставка Рустема Салихова.
Enter встретился с Верой и поговорил об истории возникновения галереи, цене искусства, казанском арт-рынке и планах на будущее.

— Галерея находится в одном помещении с вашим дизайнерским домом. Расскажите, как они связаны между собой и как родилась идея открыть галерею?
— Идея появилась спонтанно, но у меня сложилось ощущение, что я долго к ней шла. Благодаря многолетнему опыту работы в сфере дизайна интерьеров у меня поменялся круг клиентов: уровень заказчика заметно вырос, и его потребности и запросы, естественно, тоже. Появился запрос на уникальные предметы для интерьеров домов, которые мы проектируем, и на произведения искусства, а не интерьерную живопись.
Мне захотелось показывать работы художников здесь же, при проектном бюро, потому что я убеждена, что проектирование интерьера должно отталкиваться в первую очередь от искусства и авторских предметов. Можно было, конечно, поехать за ними в Москву или Питер, но на самом деле рынок существует и у нас — просто он не организован.
Галерея появилась гораздо позже, и перед этим мы открыли две школы. Детская, где изучают дизайн и архитектуру, — филиал московского «Фасада», который создали наши коллеги-архитекторы более 14 лет назад. Вторая школа стала ответом на запрос углубленных знаний со стороны людей, которые уже давно занимаются дизайном интерьеров. Казалось бы, чем их можно удивить? Но тут как раз сработал принцип «чем больше знаешь, тем больше вопросов».
Наша школа для профессионалов дает возможность получить знания в области антиквариата и современного искусства. Они необходимы для того, чтобы архитекторы и дизайнеры в своих дизайн-проектах могли грамотно преподнести клиентам актуальных художников. Художники, которые выставляются у нас, дают архитекторам и дизайнерам дополнительное образование во время своих мастер-классов. Причем оно включает не только знания искусствоведческого предмета, но и подготовку художественного уровня.
Архитектор-художник может заниматься у художника, работающего в поле изобразительного искусства, поставить руку и научиться более грамотно подавать свои идеи на холсте. Галерея в этом случае — высшая инстанция, где учитель может поделиться некоторыми секретами своей техники с учеником. Может быть, это не станет его профессией и будет своего рода арт-терапией. С другой стороны, после такого обучения легче преподнести искусство клиенту и рассказать, почему произведение стоит приобрести.
Внешне многие оценивают современное искусство фразами в духе «я тоже так могу» или «так может мой ребенок», но это — очень поверхностное восприятие. Когда ты погружаешься в современное искусство, берешь уроки у художника, то понимаешь, что не сможешь так же. Эти подготовительные этапы помогают профессиональной публике выйти на уровень ценителя современного искусства. Ей будет легче донести информацию до большей массы людей, и тогда появится беспрерывная цепочка, которая будет формировать покупательскую способность и способность оценить продукт по достоинству.

Открытие выставки «Каменные дожди» Тимофея Зверко. Фото: Альбина Весна
В августе в галерее открылась выставка Рустема Салихова «Медитация в сером». Фото: Гульнара Сагиева
— Вы архитектор и дизайнер. Помог ли вам этот опыт при открытии галереи, и есть ли что-то общее между проектированием и галерейным бизнесом?
— Общее точно есть. Уже третий проект на счету галереи показал, что подготовка к любому открытию выставки — это заранее продуманный план действий с мощной творческой составляющей. Очень важно правильно подать художника: грамотно оформить произведения, продумать их сочетание друг с другом и с пространством, провести кураторскую работу.
Мы все по-разному видим работы одного и того же художника и преподносим его искусство через призму своего видения. Экспонируя предметы, я четко следую определенной цели, и в первую очередь мне помогает художественное и архитектурное образование, а также продолжительная работа в интерьерной среде. Обзор экспозиции с учетом ее ограниченности при каждом повороте головы, сочетание работ в пространстве, смысловая и цветовая цепочки в конечном итоге выливается в единую концепцию, которая потом считывается зрителем. И я думаю, это напрямую связано с архитектурой и дизайном.
— Как вы выбираете, кого показывать в галерее?
— На собственный вкус. Еще у меня есть помощник-искусствовед, и когда я сомневаюсь по поводу качества, то обращаюсь к нему. Если отбор буду делать только я, то пространство превратится в галерею Веры Беловой и ее взглядов на мир, а мне бы все-таки хотелось оставаться в жестких рамках локального современного искусства.
— Вы делаете ставку на современное искусство. Почему?
— Думаю, это черта моего характера. Для меня более ценно нестандартное мышление художника, и если ты научился его считывать и чувствовать его особенный мир, твои границы восприятия реальности сильно расширяются. К тому же мы наконец-то вышли из периода, когда все выбирали строгую классику. Сейчас у людей есть насмотренность, и они понимают, что в профессиональном искусстве имеют право существовать не только живая природа и портреты в реалистичной манере.

В августе в галерее открылась выставка Рустема Салихова «Медитация в сером». Фото: Гульнара Сагиева
— Какие три вещи вам больше всего нравятся в современном искусстве?
— Я обращаю внимание на технику художника и то, как он подает свои работы, будь то коллаж или графика — неакадемический подход к творчеству цепляет. Очень нравится, когда перед тобой не фотографическое повторение предмета, а нечто иное. В такой момент подключается фантазия, с помощью которой ты расширяешь возможности трактовки самого произведения, и это очень важно.
Мне нравятся люди: в современном искусстве нет случайных. Они воспринимают мир немножко иначе, и когда у меня с ними возникает контакт, я вижу близких по духу людей. Мне кажется, нам было бы трудно строить диалог, если бы мы смотрели в разные стороны. Современное искусство мне ближе, потому что оценить уровень классических работ, наверное, проще, а первое дает совершенно другие перспективы.
— Совсем недавно Ассоциация галерей современного искусства приняла Кодекс профессиональной этики участников арт-рынка. Он, например, закрепляет размеры комиссий и необходимость сопровождать произведения сертификатом. Выходит, что у нас до сих пор были не приняты общие правила касательно продажи произведений искусства, и из-за этого могли возникать конфликтные ситуации между галереями, дилерами и художниками. Расскажите, сталкивались ли вы с подобными трудностями?
— Я бизнесмен и давно привыкла оформлять отношения. Это самый простой способ общения, потому что все находится на поверхности. Несмотря на теплые дружеские отношения с художниками, нужно всегда заключать договор и проговаривать каждую позицию: какую ответственность касательно создания, открытия выставки и других мероприятий несет галерея, а какую — художник.
На мой взгляд, наш арт-рынок имеет стихийный характер. Появление кодекса в первую очередь говорит о том, что многие обратили внимание на проблемы регулирования отношений между галереями и художниками, и, конечно, стоит их прорабатывать начиная с первой продажи.
Говорят, сейчас в России вторичного рынка современного искусства еще не существует. Но поскольку у нас любое движение в искусстве происходит семимильными шагами, то вполне может оказаться, что этапы возникновения вторичного и третичного рынка мы можем пройти за короткий отрезок времени, и произведение искусства станет чем-то вроде разменной инвестиции. Поэтому у любой работы должен быть паспорт, у любого художника — каталог. В таком случае и художник, и галерея выходят на профессиональный уровень. Несмотря на существование Союза художников и множества галерей, художник фактически не защищен. Хорошо еще, если у него есть арт-дилер.

— Как вы формируете цены на искусство в галерее?
— Я сравню это с бизнесом архитекторов и дизайнеров. Каким образом оценить свой труд? Тут есть несколько факторов. Например, узнаваемость художника. Новичок может прийти на рынок и установить высокий ценник, но если это одиночная работа, на счету у автора нет серии шедевров и ты вообще не знаешь, что с ним будет дальше, то высокая цена не оправдана. Может случиться, что это вообще единственное его произведение такого качества, которое получилось благодаря единичному стечению личных обстоятельств. Продавать дорого подобного автора на постоянной основе никто не станет, хотя отдельные покупки могут быть.
Человек, умеющий входить в особое, созидающее состояние, — это гений. Если он запоминает алгоритм и знает нужные рычаги для управления этим состоянием, то будет делать это регулярно. Существует еще вариант, когда автор планомерно идет к высокому качеству исполнения работы и занимается востребованной на данный момент темой. У него появится хорошая работа, но шедевром она не будет.
Молодой автор в принципе не может продаваться дорого: он должен пройти какой-то путь и показать, что вырос, понял, как входить в то состояние. Тогда уже можно говорить об оправданной высокой стоимости работы. Цена выстраивается путем диалога, и как галерист я могу сказать свое мнение, что конкретно за такую цену это произведение вряд ли возьмут, или для его продажи нам понадобится очень узкий круг людей. Тут еще возникает вопрос к самому художнику: он стремится продать предмет или просто хочет показать, что может назначить очень высокую цену? Во втором случае она может быть таковой.
— Кто сейчас приходит в галерею и кого вы ждете в будущем?
— Первая волна наших посетителей — клиенты бюро и те, кто знает меня лично. Это зрелые люди и молодые знакомые молодых же художников, с чьих выставок галерея начала работу. Вместе с автором третьей выставки Рустемом Салиховым пришла совершенно другая категория людей, чему я очень рада. Это как раз те люди, которые оценят его творчество по-особому.
Среди молодых посетителей есть начинающие коллекционеры, и в то же время хотелось бы, чтобы к нам шли коллекционеры, которые давно в арт-рынке — для меня это было бы высокой оценкой нашей деятельности. В дальнейшем мы будем выставлять зрелых художников, которые давно не выставлялись. Они готовы сделать это именно в наших стенах, поскольку видят, что здесь особенное отношение к их работам.
— Как вам кажется, важно ли коллекционеру общаться с художником?
— Я думаю, да. Коллекционерами чаще всего являются люди, получившие рецензию и оценку от профессионала и приобретающие работу в качестве хорошей инвестиции. На мой взгляд, они, как правило, не ценители определенного творчества. Для художника же важно, чтобы покупатель поговорил с ним лично, услышал его мнение. Когда это случается, перед нами особый коллекционер — как минимум, погруженный в искусство. Он с душой выбирает работу и опирается на собственные эмоции, но время показывает, что это может стать и хорошей инвестицией.
— Каким вы видите будущее галереи?
— Думаю, мы будем гораздо больше, потому что уже спустя четыре месяца после открытия нам мало места [смеется]. И я надеюсь, мы станем более профессиональными, привлечем в том числе международную публику, ведь в Казани очень много туристов. А самое главное — сохраним формат галереи, которая занимает узкую нишу современного искусства, и не будем вынуждены уходить в другие направления, чтобы как-то себя содержать. Верю в то, что мы будем строгими, сухими, — возможно, для кого-то даже противными, — но будем четко идти к своей цели.
В ноябре в рамках Года Германии в России 2020/2021 в Казани проходит pop-up фестиваль немецкой культуры и немецкого языка RODINA-SET’. Большинство мероприятий можно будет посетить онлайн, но есть также и офлайн-программа. К ней относится саунд-арт-инсталляция Ханно Лейхтманна TRPT4769, которая будет представлена в ЦСК «Смена» с 20 по 29 ноября. Enter поговорил с художником и разобрался, почему стоит посетить эту выставку.

Понять, чем саунд-арт отличается от музыки
Термин «саунд-арт» начал часто появляться в литературе в конце 1990-х годов, но при этом варианты его определения несколько разнились. Как и во многих других направлениях искусства, отдельные художники, практиковавшие работу со звуком еще до появления этого термина, с недоверием относились к нему. Звуковое искусство существует в выставочной ситуации, а не в форме исполнения на сцене — в отличие от музыки. Музыка, особенно поп, в противоположность саунд-арту, подобна аттракциону в парке развлечений: у нее есть завязка, кульминация и развязка; это короткий, концентрированный опыт острых ощущений, который можно легко пережить, слушая песню снова и снова. А звуковое искусство, хоть и предполагает посещение галереи или музея (правда, не всегда), может быть похожим на путешествие в зоопарк, на Луну или в ваш холодильник — в зависимости от произведения.
Выразительным средством в саунд-арте является сам звук. Звуковое искусство редко пытается создать портрет или запечатлеть переживания человека. Его главная забота — звук как явление природы и/или технологии. И это качество сделало его не самым привлекательным для масс видом: только к середине прошлого века, когда абстрактное искусство стало передовой формой, идея саунд-арта (как чего-то отличного от музыки) нашла благодатную почву.
В 2013-м году мне захотелось создавать простую музыку с помощью сэмплов и лупера. Я понял, что в таком виде она не нуждается в исполнителе на сцене, то есть, во мне. И тогда я начал придумывать саунд-инсталляции. Мне это до сих пор очень нравится. Обычно я создаю работы под каждый проект отдельно, так что TRPT4769 — первый в моей биографии случай квазифраншизы, когда ко мне пришли и сказали, что хотят услышать ее в другом городе. Конечно, я бы с удовольствием приехал, но моя инсталляция прекрасно работает и без меня. Я написал мануал по ее монтажу, так что при установке невозможно ошибиться. Очень легко сделать так, чтобы она звучала хорошо.

Послушать, как звучат редкие экспериментальные инструменты
Американец Гарри Партч, на чьих архивных аудиозаписях построено звучание TRPT4769, известен созданием звукоряда, отличающегося от привычного темперированного строя. Свои композиции Партч также писал с помощью этого звукоряда, за счет чего его музыка звучала очень странно и непривычно для нашего слуха. Еще он изобретал музыкальные инструменты, например, бамбуковые маримбы, адаптированные гитары, облачно-камерные чаши и насосные органы.
Партч преследовал цель — избавиться от более чем двухсотлетнего (на тот момент) владычества шкалы, равномерно разделенной на двенадцать интервалов. Ее история началась еще во времена Баха, и эта шкала используется до сих пор. Гарри Партч обращался сразу к нескольким альтернативным традициям — древнегреческому пифагорейскому строю, древнегреческой драме и японским театрам «Но» и «Кабуки». Несмотря на кажущуюся безумность затеи, Партч был довольно успешным.
Ханно Лейхтманн создал уже десяток инсталляций, построенных на пленочных записях: он берет сэмплы из звуковой библиотеки одного артиста и создает на их основе новую композицию. Из проекта в проект идея сохраняется, но звучит инсталляция всегда по-разному — в зависимости от исходной библиотеки. Работа TRPT4769 основана на кассетных записях инструментов Гарри Партча.
Для того, чтобы в условиях коронавируса посетителям было комфортно посещать выставку, художник и организаторы придумали сеансы, которые длятся по часу: полчаса инсталляция работает, а остальное время команда тратит на проветривание помещения. Посетить выставку можно с 12:00 до 19:00 абсолютно бесплатно.
Гарри Партч оставил после себя очень много записей. В 21 год я готовился к поступлению в Берлинскую школу: брал уроки по классическим ударным у одного очень хорошего учителя — Дирка Ротбруста. Сейчас он один из трех лучших академических ударников в мире. Мы встретились на одной вечеринке в Берлине три года назад. Тогда он играл в ансамбле на инструментах, изобретенных Гарри Партчем. Я рассказал ему, что работаю с архивами. Он ответил, что у них много материалов Партча, и я такой: «Вау, не может быть». Перкуссионист Майкл Ранта дал нам кассетные записи и mp3. Я очень специфически подошел к этим архивам, вычленял микроскопические фрагменты, удлинял их и так далее.
Работа над TRPT4769 заняла около двух с половиной месяцев. Вообще, я могу делать это быстрее, но если хочется более системно подойти к материалу, погрузиться, то на это необходимо время. Представьте: одна запись может длиться пять часов и содержать тысячи звуков, а я из условных трехсот минут выбираю тридцать лучших. Мне нравится слушать архивные записи и не торопиться. Но все зависит от бюджета и времени, которые имеются в конкретный момент.

Научиться внимательному слушанию
Изучение звуковой инсталляции требует спокойного созерцания и вслушивания. В некотором смысле такая форма искусства является малоинформативной, потому что категории нарратива и сюжета от нее далеки — в отличие от классического изобразительного искусства. Это делает ее более непривычной для восприятия. Дело в том, что саунд-арт, в противоположность живописи или скульптуре, не дает посетителю возможности дрейфовать от произведения к произведению, едва «зацепляя» их взглядом. Саунд-инсталляция требует внимания и времени — это сближает ее с видеоартом. Являясь и временным и пространственным видом искусства, саунд-арт возвращает нас к более медленному проживанию опыта.
Композитор Эдгар Варез говорил о том, что воспринимать изобразительное искусство — значит идти в ногу со скоростью света. То, что мы усваиваем большую долю информации визуально, абсолютно верно. Как и то, что человеку некомфортно находиться в тишине так же, как в темноте. Слух нужен не только для получения информации о потенциальной опасности для выживания в природе — он является маркером, указывающим на то, что вокруг находится жизнь, а не пустота. Окружающие звуки напоминают слушателю о его собственном присутствии в живом мире.
Если в трех словах попытаться описать TRPT4769, то это будет так: странная, психоделическая и глубокая. Она не предназначена для «легкого прослушивания», я бы назвал ее сложной, но не негативной. Люди, которые приходят послушать мои работы, обычно выглядят очень сконцентрированными. Некоторые лежат на полу все это время. Моя инсталляция шестиканальная, в форме круга.
Слушать инсталляцию можно хоть десять минут, хоть два часа — тут уж как понравится. Чаще всего люди довольны моими работами: кто-то танцует или трясет головой в такт. Если же говорить о смысле названия, то тут все очень просто. Когда я прописывал идею проекта, перкуссионист, изначально записавший все эти кассеты, дал рабочее название файлам The Ranta Partch Tapes (из этих слов складывается аббревиатура). А номера файлов записей находились между 47 и 69.

Автор инсталляции — художник с кураторским и продюсерским бэкграундом
Ханно Лейхтманн выпускает музыку с 1997 года. Помимо этого, он является продюсером, художником, куратором междисциплинарного фестиваля Letra / Tone, посвященного синтезу графики и музыки. Он начал заниматься музыкой еще в детстве, играя вместе с братом: тот на синтезаторе, а Ханно — на ударных. Затем поступил в Берлин в музыкальную школу, чтобы учиться у Джерри Гранелли и Александра фон Шлиппенбаха, но, по собственным словам, через полгода ему стало скучно, и он выбрал путь импровизации с ударными инструментами. После знакомства в конце 90-х с композитором Николасом Буссманном создает две группы и пишет свои первые электронные треки на компьютере. К 2000-м начинает продюсировать артистов. В то же время у него появляются группы Groupshow с Яном Йелинеком и Эндрю Пеклером и Denseland с Дэвидом Моссом, которые существуют до сих пор.
В середине нулевых Лейхтманн двигается от написания музыки и выступлений к художественной практике со звуком, которая не требует его каждодневного присутствия на выставках. Помимо работы художником, он инициирует междисплинарные проекты, объединяя дизайнеров и музыкантов, и владеет лейблом Picture / Disk.
Когда я только начал использовать архивные материалы в своих инсталляциях, у меня самого была большая коллекция записей. Я подумал, что было бы здорово сделать музыку с помощью лупера. Мне очень понравилось: получилось такое простое, понятное звучание. И когда я сыграл эту вещь в галерее в присутствии световых объектов, я понял, что вот музыка, а вот свет, и этого достаточно — я здесь уже не нужен. После этого, когда мне предложили выступить с концертом, я сказал, что хочу делать только инсталляции.
Между 1995-м и 2010-м я сыграл много концертов по всему миру. Я довольно сильно устал от поездок, аэропортов, поездок, отелей, постоянно сменяющихся площадок. Я подумал, что больше не хочу такой жизни. Мне нужна была проектная работа, благодаря которой у меня появятся время и деньги. Сейчас в среднем у меня есть пара месяцев для того, чтобы разработать проект, показать его публике и жить пару месяцев благодаря этому, параллельно находясь в поисках других предложений. Ритм жизни замедляется, и я могу знать, чем буду заниматься через полгода или больше. Прозвучит немного безумно, но, например, сейчас я работаю над проектом для 2023 года.
Помимо работы со звуком, я курирую фестивали. Один из них, Letra / Tone, посвящен графике и музыке. Существует такая вещь, как графическая партитура, и ее обычно пишут профессиональные композиторы. Идея моего фестиваля в том, чтобы графические партитуры создавались графическими дизайнерами, а не композиторами. Затем музыканты-участники фестиваля должны сыграть написанные дизайнерами произведения. Я рад, что в этом проекте вместе работают те, кому в обычной жизни сложно было бы пересечься. Аудитории и участникам тоже нравятся эти эксперименты.
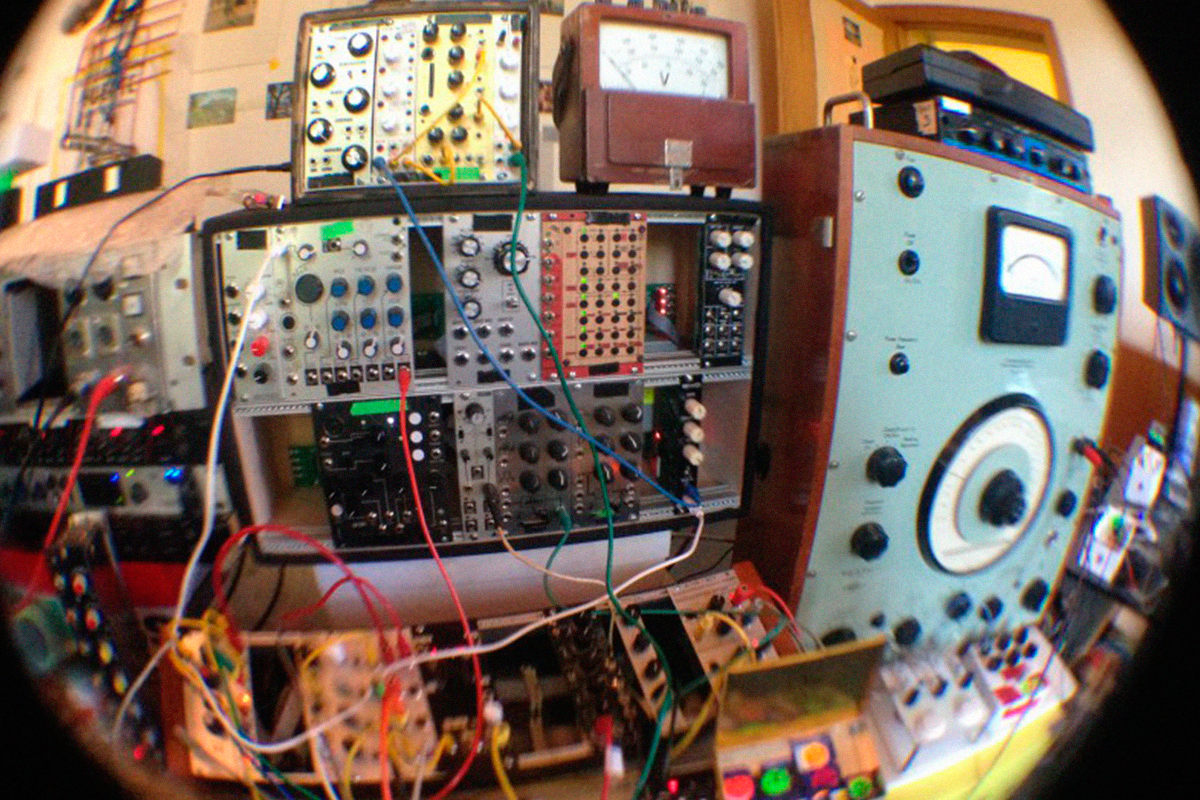
По-новому взглянуть на привычное выставочное пространство
В своей книге «Саунд-арт» Алан Лихт приводит слова теоретика кино Белы Белаж: «Каждый звук имеет свои собственные пространственные характеристики. Один и тот же звучит по-разному в маленькой комнате, в подвале, в большом пустом зале, на улице, в лесу или на море». Действительно, саунд-арт может рассматриваться как выставленная звуковая среда, которая определяется акустическим пространством, а не временем, и является визуальным произведением в том числе. В отличие от зрения, слух невозможно полностью выключить по собственному желанию — или даже помимо его.
Фото предоставлены: hannoleichtmann.com
До 22 ноября в галерее современного искусства «Окно» проходит выставка «Шесть молодых художников. Взгляд через пятьдесят лет». Вместе с ее сокуратором Ольгой Улемновой автор рубрики «Артгид» Луиза Низамова разобралась, зачем делить искусство на официальное и неофициальное, что повлияло на художественную сцену послевоенных лет в ТАССР и почему молодых художников редко выставляют в казанских музеях.

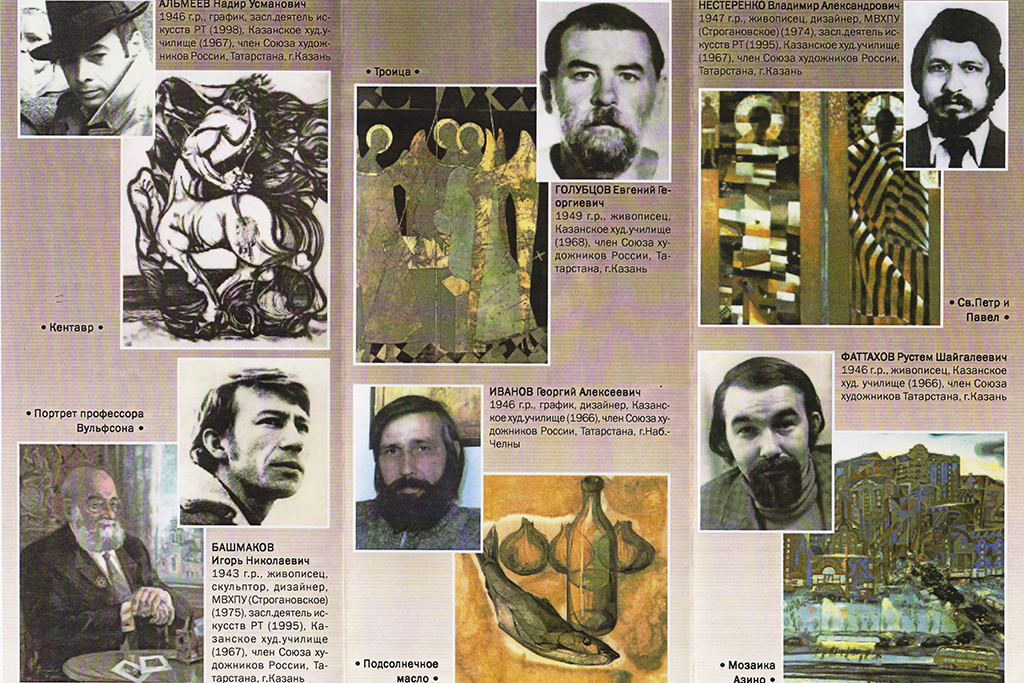
Предыстория
50 лет назад в актовом зале Казанской консерватории открылась «Выставка шести молодых художников», в которой участвовали Надир Альмеев, Игорь Башмаков, Евгений Голубцов, Георгий Иванов, Владимир Нестеренко, Рустем Фаттахов — все недавние выпускники Казанского художественного училища, кроме Альмеева. Тот был исключен вместе с Нестеренко за слишком смелое для того времени новогоднее оформление парка «Черное озеро», но после восстановления в училище не захотел туда возвращаться. Эта выставка реконструировалась аж дважды — в 2000-м году и в 2020-м (нынешняя выставка в «Окне»).
Почему она так важна для истории искусства? Во-первых, это один из самых ранних публичных ТАССР-овских опытов проведения выставок, не зависящих от Союза художников. Во-вторых, она оказалась отправной точкой в карьере ее участников. Все они вскоре станут важными фигурами татарской художественной сцены, причем каждый из них — в отдельной сфере: Альмеев — в книжной и станковой графике, светомузыке и кинематографе, Голубцов — в живописи (и увлечет за собой новое поколение художников), Башмаков — в монументально-декоративной скульптуре, Нестеренко (вместе с Голубцовым) — в проектировании общественных зданий, Фаттахов — на телевидении, а Иванов станет ведущим художником-проектировщиком Прикамского региона.
Последнее десятилетие в российском искусствознании отмечено все более возрастающим интересом к периодам оттепели и застоя — стоит хотя бы вспомнить недавние выставочные блокбастеры «Оттепель», «Ненавсегда» (Третьяковская галерея, 2017, 2020), «Лицом к будущему. Искусство Европы 1945–1968» (ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2017), большие ретроспективы Владимира Янкилевского (ММСИ, 2018), а также Комара и Меламида (ММСИ, 2019) — список можно продолжать.
В Москве и Петербурге активно обсуждаются этические вопросы об экспонировании произведений послевоенного искусства — например, стоит ли показывать официальное и неофициальное искусство в одних и тех же выставочных пространствах художественных музеев, или первое стоит показывать только в исторических музеях. В Татарстане тоже исследуют художественную жизнь того времени: в 2018-м году в ГМИИ РТ прошли ретроспектива Игоря Вулоха «Эволюция белого» и выставка «После оттепели». Несмотря на такие активные процессы, изучение материала далеко от своего завершения, и есть причины говорить о том, что новая история искусства еще не написана.

Новая история искусства все-таки написана, но с современной точки зрения, конечно, несколько однобоко. Я имею в виду здесь, в первую очередь, «Искусство Татарии» Червонной и другие ее книги. Понятно, что она освещала историю с точки зрения официальной и идеологической, и за рамками ее исследования оставались полуофициальные художники и авангардистские проявления в творчестве художников, вполне вписывавшихся в официальное искусство. Я говорю «полуофициальные», потому что их нельзя называть в полном смысле слова нонконформистами, хотя попытки такие иногда делаются.
Такие яркие казанские авангардисты, как Алексей Аникеенок или Игорь Вулох, по-моему, вообще выпали. Но эти художники были не так тесно связаны с Казанью, особенно Вулох (он перебрался в Москву в двадцатилетнем возрасте, в 1958 году, — прим. Enter). Художники, у которых прослеживались авангардистские тенденции, исследовались Червонной частично — только та часть их творчества, которая укладывалась в понятие соцреализма, официального искусства. Их эксперименты она оставляла за бортом. В этом отношении можно сказать, что полная, всесторонняя история искусств еще не написана. Это задача нынешнего и будущего поколений искусствоведов.
Надо сказать, что и написанных книг, действительно, немного. По Аникеенку, например, искусствовед и галерист Ильдар Галеев издал альбом, и там есть несколько аналитических статей, в том числе хорошо представлен и его казанский период. Еще надо назвать книгу Султановой «Искусство новых городов» (2001). Она посвящена искусству Нижнекамска, Набережных Челнов и других индустриальных городов-гигантов, которые были основаны в 60-х, и искусство там начало формироваться в то же время. В этой книге оно иллюстрируется уже без купюр, потому что она написана в 90-е годы. Но тут есть тоже некоторая ограниченность — географическая: казанское искусство там не рассматривалось, просто задача такая не стояла.
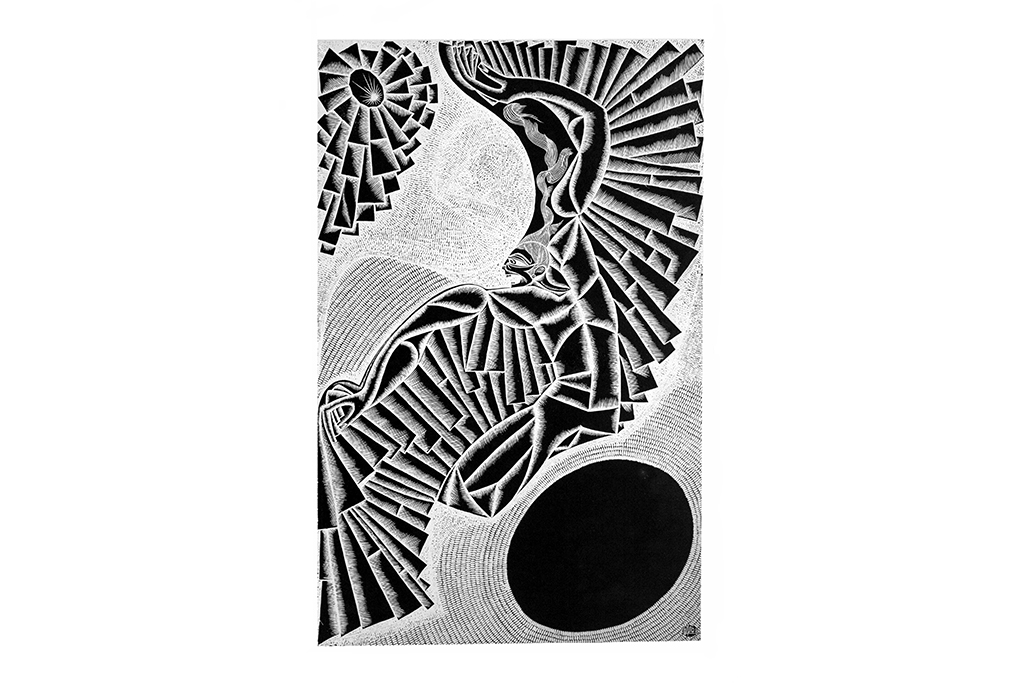
Официальное и неофициальное: разделять нельзя смешивать
В начале текста упоминалось, что «Выставка шести» — одна из первых, организованных в обход Союза художников. Здесь стоит рассказать о том, как в то время обычно был устроен выставочный процесс.
Вся выставочная деятельность была прерогативой Союза художников, и попасть на выставку можно было только через Выставочный комитет или Художественный совет, которые оценивали профессионализм и заслуги участников, художественный уровень произведений, их соответствие идеологическим нормам. А пробиться на них недавним выпускникам или еще студентам, к тому же замеченным в художественных вольностях и увлечениях разнообразными «измами», было непросто или даже практически невозможно.

Чем послевоенное официальное искусство отличается от неофициального? Первое управлялось государством в целях пропаганды и структурно относилось к Отделу пропаганды ЦК. Это означало, что официальный художник получал заказ на произведение, который оплачивался только в том случае, если работа удовлетворяла худсовет. Цензура устанавливала набор тем и стиль (только не «формализм»!). И, конечно, искусство должно было соответствовать еще одному критерию — прославлять советскую жизнь.
Это может показаться безобидным, поэтому нужно поговорить о том, почему некоторые критики предлагают показывать официальное отдельно от нонконформистского. В первую очередь, в нем отсутствовал выбор: все темы, лежавшие за пределами одобрения государственной идеологии и при этом составлявшие внутреннюю и внешнюю человеческую жизнь, замалчивались. А практика неофициального художника выглядела иначе: его работы никто не заказывал, он решал самостоятельно поставленные перед собой художественные и философские задачи, будучи при этом в некотором смысле первым человеком в открытом космосе, ведь для его пути не существовало ни инструкций, ни методов.
В чем еще существенное отличие неофициальных художественных практик от официальных? Оно связано с потенциалом произведения с точки зрения коммуникации со зрителем. Официальное искусство не оставляет пространства для разночтений и ясно дает понять: вот — белое, а вот — черное. Надо сказать, что от искусства до сих пор часто ждут именно этого — чтобы оно определяло за человека критерии добра и зла, красоты и уродства.
Но исследователи сходятся в том, что специфичной и определяющей функцией искусства является именно возможность открытой коммуникации. Иными словами, взаимодействуя с таким «открытым» объектом, зритель потребляет не его, а процесс восприятия, и, цитируя искусствоведа Лелю Кантор-Казовскую, «коммуницирует попеременно с произведением и с самим собой, мобилизуя эмоции, знания и интеллект и умножая смыслы, хотя ему кажется, что он их видит в объекте». Таким образом, заложенное изначально в работу значение не является окончательным, и это придает ей ценность.
Считается, что настоящее современного российского искусства генетически связано именно с неофициальной ветвью послевоенного искусства. Это утверждение касается истории столичной художественной жизни и некоторых регионов, но его едва ли можно переносить на Татарстан, потому что нонконформистская ветвь у нас практически отсутствовала.
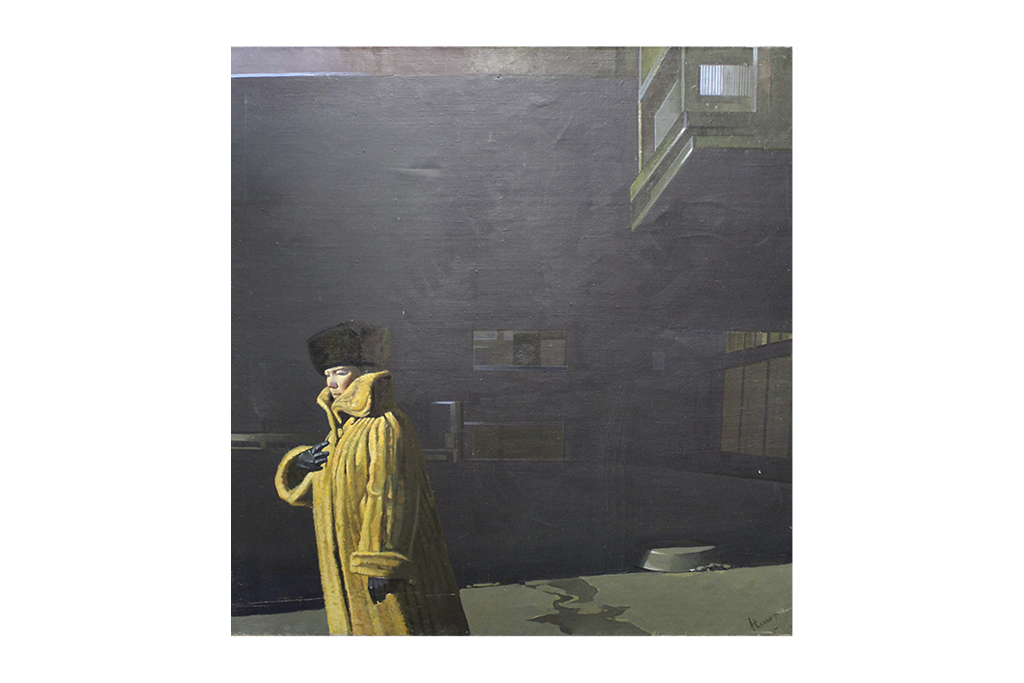
Сама ситуация с художественным образованием в Казани, то есть отсутствие высшего художественного учебного заведения (у нас было только училище), спровоцировала отток наиболее талантливых и амбициозных, склонных к экспериментам художников в столицы. Большинство из них не возвращались, находя себе применение в столичном искусстве, а те, кто возвращались в Казань, испытывали достаточно сильное давление со стороны Союза художников, в котором превалировала официальная, идеологическая позиция. Например, Харис Якупов, председатель правления СХ, был личностью талантливой, интересной, сильной, но, исповедуя ортодоксальный соцреализм, не давал возможности развиваться экспериментальным формам искусства.
Хотя не все так однозначно. Была еще и другая точка притяжения для казанских художников — Баки Урманче, который, по сути, формировал неофициальную линию казанской художественной жизни, связанную с возрождением и развитием национального искусства, опираясь на древние традиции арабографической культуры, на мусульманскую философию, что само по себе было новацией для того периода, когда понятие национального искусства тоже было регламентировано.
А вот точки притяжения авангардистской у нас не было, не было такой сильной личности, которая объединила бы экспериментаторов вокруг себя, противопоставила себя официальной линии советского искусства, как это происходило в столицах. В данном случае я имею в виду область станкового искусства. Хотя похожие объединения возникали, и явление «Шести» было ярким тому примером. Но такие объединения у нас не были долговременными. А художественные эксперименты в 1970–80-е годы стали реализовываться в сфере дизайна интерьеров и городской среды. И здесь как раз художники «Шести» сыграли важнейшую роль, став проводниками новых идей: Голубцов, Нестеренко, Башмаков — в Казани, Иванов — в Набережных Челнах.
Чтобы искусство развивалось, необходимо несколько условий: с одной стороны, творцы и некое выставочное пространство, где они могли бы позиционировать свое творчество, с другой, нужны зрители, которые были бы готовы воспринимать это искусство, сложное, неоднозначное, требующее определенной подготовки и усилий. По-видимому, у нас это существовало в каком-то ограниченном состоянии, и нонконформистская линия, которая открыто заявляла бы: «Мы не согласны и идем своим путем», не сформировалась. Но этот вопрос требует дальнейших исследований.

Традиции и авангард
Выставка «Шесть молодых художников. Взгляд через 50 лет» не является своей точной копией 1970-го года: большинство работ (за исключением гравюр Альмеева) не сохранилось, и организаторы отыскали аналогичные им в частных коллекциях, в мастерских художников и их наследников вещи, экспонировавшиеся в 1970-х. Они свидетельствуют об освоении живописцами наследия русского и европейского авангарда.
В «Окне» показаны работы авторов как из ранних, так и из более поздних (конец 90-х, 00-е) периодов. Но для того, чтобы на такой выставке можно было проследить эволюцию стилей каждого из участников, нужно показать гораздо больше материала и, соответственно, подбирать под это другие площади. Кажется, что из всей «Шестерки» наиболее последовательным выглядит Надир Альмеев: его союз с печатной графикой длится с конца 60-х до сегодняшних дней. Его ранние работы отсылают, в том числе, и к опыту формы и динамике в кубофутуризме и немецкой экспрессионистской гравюре. Они легко узнаваемы благодаря синтезу мощной композиции, ритма и концентрированной образности — качествам, которые позволяют назвать их лучшими образцами графики к стихам. Одна из центральных тем его творчества — человек, борющийся (со стихией, со страхами) и ищущий ответ на вопрос «Что такое человек?».
Владимир Нестеренко двигается от более ранних отстраненных, метафизических пейзажей и портретов к сюрреалистической, мистической оптике в позднем творчестве. Он, как и другие участники «Шести», не делает доминантой своего творчества национальные мотивы, хотя преобладание национальной тематики в искусстве так или иначе повлияло вообще на всех художников ТАССР.

На самом деле народное искусство, национальное искусство, в том числе искусство Востока в самом широком смысле, были важнейшими источниками развития авангарда. Поэтому дело не в национальной тематике как таковой. Но на мой взгляд, национальные особенности нашей республики не благоприятствовали широкому развитию изобразительных искусств, поскольку татарский менталитет сформировался в условиях строгих религиозных запретов на изображение человека и животных.
У нас до сих пор действительно сильны какие-то национальные традиции, традиции неизобразительной художественной культуры. Изобразительное искусство воспринимается хуже большой массой населения, но при этом очень развиты театр и музыка. Хотя театр тоже был новым для татар видом искусства, но хорошо лег на традиционную культуру. А вот изобразительное искусство, действительно, сложнее воспринимается. Этот фактор играет свою роль.
Сталинское время повлияло на искусство не только тем, что возникло обязательство соответствовать соцреалистическому канону. Из-за того, что вплоть до конца пятидесятых такие произведения исчезли из экспозиций музеев, естественная история развития от авангарда была прервана. Но уже в 70-е годы наследие казанского авангарда изучали и показывали публике.
Эти произведения выставляли, и более того, собирали. Но борьба с формализмом продолжалась. И, видимо, эта волна реакции после оттепели в Казани как-то сильнее задела художественную среду. Например, Анатолия Ивановича Новицкого (искусствовед, один из основателей Государственного музея изобразительных искусств РТ, — прим. Enter), который в 1960-е поддерживал художников-экспериментаторов, на каком-то этапе стали за это порицать. Сложилась ситуация, когда он был вынужден уйти из музея на долгие годы.
Но поколение искусствоведов, которое заклевало Новицкого, тоже ушло, и в 1970-е в музей пришло новое (В.К. Чернышева, Н.М. Аксенова, Г.А. Рамазанова и другие), у которого интерес к авангарду проявлялся на уровне и изучения, и собирания, и презентации. Например, во время сезона 1978-79 годов в Музее изобразительных искусств прошел цикл лекций, посвященных искусству Татарстана 20-30-х годов, причем эти лекции сопровождались выставками. Но проводились они не в основном здании музея, а в здании лектория, во флигеле, что определяло и более узкий круг зрителей и слушателей.
В рамках этого цикла было представлено творчество Плещинского, лидера «Всадника», Чеботарева и Платуновой, Тагирова и Коробковой, Красильникова, Мухамеджанова, Каримова… Произведения приобретались музеем, часть дарилась художниками и их потомками, но вся эта активность была рассчитана на узкий круг посвященных, определяемый небольшой площадью лектория.
И если в 20-е годы коллекция казанского авангарда только начала формироваться, то основные произведения приобретались уже в 60-70-е. Тот же Новицкий занимался Чеботаревым и Платуновой, и именно он устроил в 64-м году их персональную выставку еще в залах Государственного музея ТАССР, где располагался созданный на базе Картинной галереи Музей изобразительных искусств ТАССР. Коллекция русского авангарда была сформирована, в основном, в 20-е годы, хотя в 70-80-е этот процесс тоже продолжался: достаточно вспомнить приобретение музеем целой коллекции рисунков Фалька.

Молодые художники тогда и сейчас: что общего
Кажется, что молодые художники пятьдесят лет назад и сегодня в Казани находятся в похожих условиях: в городе до сих пор нет художественного вуза, не появилось и школы современного искусства, а музеи и культурные центры не очень активно работают с теми, кому меньше тридцати пяти.
Мне кажется, таких параллелей проводить нельзя, потому что сейчас ситуация в корне другая. Есть свобода творчества и выставочных площадок гораздо больше, по сравнению с 60-70-ми. Тогда были музей, Дом художника (нынешний Худфонд), затем появился художественный салон, где иногда проводились выставки, — и, по сути, все. Изредка проводились выставки где-то в фойе, в неприспособленных для этого местах, даже в рабочих кабинетах наших ученых (например, в 1974 году в кабинете математика Б.Л. Лаптева состоялась выставка гравюр Альмеева). Лишь в конце 1970-х появились Выставочный зал Союза художников ТАССР, Молодежный центр, который тоже стал одной из выставочных площадок.
Почему в музеях мало молодых показывают? Потому что музей — это определенный статус. Музей все-таки показывает, в основном, произведения уже признанных художников, внесших значительный вклад в искусство. Основная его функция — хранить, собирать и показывать классику. А молодежь все-таки должна начинать выставляться не в музейных пространствах, а на альтернативных площадках. Но сейчас на музей легла функция по представлению самого художественного процесса в его зарождении и развитии. Это несвойственная ему функция, но он ее выполняет, занимаясь в том числе и молодыми художниками. Например, Казанская биеннале печатной графики «Всадник» уделяет большое внимание привлечению молодежи и даже учредила специальную премию «Перспектива» для молодых графиков.
Хотя, я согласна с тем, что музей мог бы еще больше уделять внимания молодым художникам в связи с тем, что альтернативных площадок сейчас у нас не так много. В то же время это сложно, потому что с молодым художником есть риск: бывает, что он интересно заявляет о себе на начальном этапе, а потом скатывается вниз. Его «проба пера» бывает удачной, бывает и неудачной. А статус музея уже придает не самым удачным «пробам» определенный вес и значимость. По идее, в республике должна быть развита сеть галерей, выставочных площадок, где молодые имели бы возможность показывать свои эксперименты. Кажется, в обновленной Национальной библиотеке тоже хотят работать с молодыми художниками, и это стоит только приветствовать.
Вероятно, актуальные казанские художники, выросшие в 90-е, не ощущают связи с участниками «Шести» — хотя бы потому, что находятся в разных информационных полях. В этом смысле реконструкция выставки 70-го года — естественный повод преодолеть этот разрыв. Любопытно будет со временем вернуться к этому вопросу и проследить, обратятся ли художники к наследию Игоря Башмакова или Георгия Иванова или обнаружат связи с кем-то вне локальной сцены. Вопрос продолжения традиций в искусстве актуален сейчас не только в региональном контексте, но и в общемировом.
Фото: Предоставлены Натальей Альмеевой



