Философ Роберт Пфаллер — о материализме, удовольствиях и бодипозитиве
Роберт Пфаллер — профессор философии и автор книги «Ради чего стоит жить. Начала материалистической философии», презентация которой прошла в Казани в рамках Летнего книжного фестиваля «Смены». Enter поговорил с Пфаллером о новой поп-культуре, природе зависти, материализме и удовольствиях.
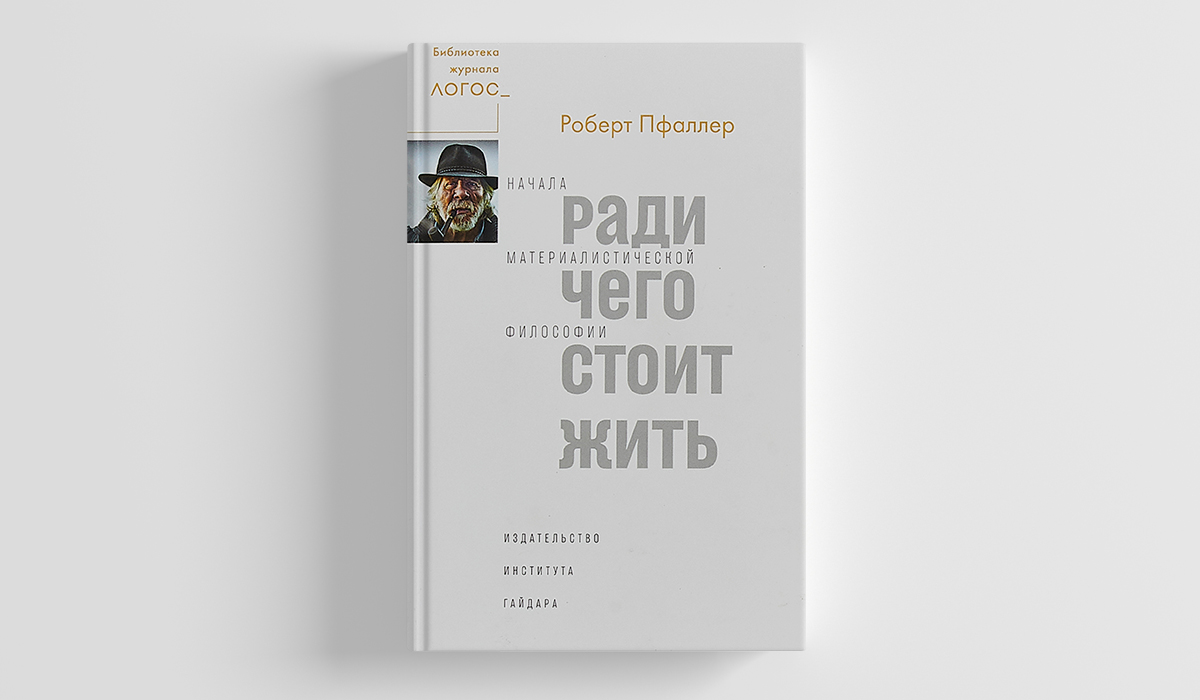
Роберт Пфаллер — профессор философии и теории культуры в Университете искусств и промышленного дизайна в Линце, Австрия; один из основателей психоаналитической исследовательской группы «stuzzicadenti».
— В самом начале книги «Ради чего стоить жить. Начала материалистической философии» вы обращаете внимание на явление, которое называете сменой «освещения». В чем причина этой смены?
— При помощи этой концепции я попытался описать внезапную перемену, которая возникла в последние двадцать лет в западных капиталистических обществах. Она касается таких обыденных вещей, как употребление спиртного и мяса, курение, политкорректность, черный юмор, флирт, ношение туфель на высоких каблуках, вождение машины, сексуальность и так далее. Долгое время эти вещи считались доставляющими удовольствие (и по-прежнему считаются таковыми в остальном мире), и вдруг начиная с 90-х западное общество стало относиться к ним как к некоему злу — как к угрозе здоровью, экологии, гендерному равенству, хорошим манерам и так далее.
Впрочем, эта перемена довольно своеобразная: она не вызвана появлением новой информации. Курение внезапно было объявлено недопустимым не из-за осознания того, что оно не является невинным удовольствием, а представляет угрозу для здоровья. Привлекательность чего бы то ни было всегда возникает именно за счет своей опасности, и потому такие вещи предназначены только для взрослых — сюда относятся секс, вождение автомобиля и так далее. Так что перемена мнения вызвана не узнаванием новых фактов, а только изменением в восприятии старых. Мы словно рассматриваем наши наслаждения под другим освещением.
Я попытался показать, что причина этого явления в том, что неолиберализм и сопутствующая ему идеология — постмодернизм — приватизировали публичное пространство. Из-за этого люди утратили ощущение солидарности, которое требуется для практик удовольствия, амбивалентных по своей природе. В то же время празднество в группе — например, распитие шампанского — может превратиться во что-то возвышенное. Празднество подразумевает, что группа признает собственный трансформативный потенциал в связи с этими амбивалентными практиками, и потому мы не отмечаем день рождения взрослого человека минеральной водой.
— Какую роль играет бодипозитив в эпоху чопорного и враждебного отношения к удовольствиям и к телу в частности?
— Мое утверждение заключается в том, что способность ценить удовольствия зависит от ситуации в обществе. Если оно в состоянии поддержать индивидов, для которых принципиально восхвалять эти противоречивые практики, то индивиды начинают высоко ценить их — в противоположном случае подобные практики чаще всего внушают отвращение. Например, многие люди сами по себе не любят пить спиртное, но когда нужно поздравить коллегу с днем рождения, даже самые упертые любители чая способны насладиться глотком шампанского. Императив празднества позволяет им преодолеть собственные ограничения.
«Боги, которых мы прекратили славить, превратились в наших демонов», — писал немецкий поэт Генрих Гейне в своей новелле «Боги в изгнании». Именно это произошло с нашими удовольствиями: поскольку общество больше не поддерживает предписание празднества, удовольствия превращаются в наших демонов.
Это явление, которое должно исправляться на уровне общества. В одиночку это сделать невозможно. Бодипозитив — проявление подобного социального состояния, но не повод считать, что наше отношение к удовольствиям улучшилось.
— Вы пишете, что распространение порнографии определяет эротическую нищету постмодернистской культуры. Что под этим подразумевается?
— Сейчас имеет значение не распространение порно самого по себе, а ужасающего вида порнографической попсы. Звезды типа Бритни и Рианны эксплуатируют порнографический имидж. При этом трансгрессивные эротические и сексуальные практики не происходят в большом кино с какими-нибудь Марлоном Брандо или Марией Шнайдер, а вместо этого они случаются с обычными людьми — с условным Васей Пупкиным или Мариванной из любого реалити-шоу.
Такое изменение медиальности и уровень культуры показывают глубокие изменения нашего отношения к этим практикам. Классическое кино показывало трансгрессивную сексуальность как некий идеал, на который обычные люди могли ориентироваться или мечтать о нем. А сегодняшняя поп-культура показывает сексуально активного Другого как амбивалентную фигуру, одновременно очаровательную и отвратительную. Мы хотим видеть такой секс, но нас научили просто довольствоваться мыслью о том, что это Другой предается грязным утехам. Не остается ничего, к чему можно стремиться или мечтать. Мы просто радуемся тому, что это не мы.

— Вы используете комедию как пример для прояснения программы материалистической философии. Не могли бы вы вкратце рассказать об этом?
— Несмотря на то, что на постмодернизм вешается ярлык иронической культуры, он породил довольно мало действительно хороших комедий, в то время как более строгий модернизм знает их очень много. Это можно объяснить, как я полагаю, материализмом самой комедии: как и философский материализм, комедия настаивает на том, что видимый мир — единственный, и если существует что-то, что можно назвать правдой, то она должна быть постигнута в этом мире. Метафизика, напротив, постоянно стремится разделить сущности: «смешно, но выдумка», «печально, но факт», «свободный, но несчастный», «счастливый, но несвободный» и так далее.
Операция по разделению мира на две противоположные части — базовая операция метафизики, происходящая из идеи о том, что мир несовершенен, и все по-настоящему прекрасное должно потерпеть в этом мире крах. Следовательно, трагедия прославляет неудачу, будто бы неудача сама по себе могла служить доказательством возвышенного. Комедия, напротив, прославляет успех: если что-то величественное возможно, оно должно иметь место здесь и сейчас. Поэтому в комедии самые невероятные замыслы приводят к успеху.
— Сейчас многие блогеры говорят о том, что для них зависть стала мотивом к действию. Кажется, ваш тезис о зависти противоположен такому отношению: вы пишете, что зависть не может быть движущей силой политического действия. Почему?
— Вы не совсем поняли. Думаю, зависть блокирует возможность серьезных политических действий. Я называю ее идеалистическим пороком. Когда вы завидуете, то не хотите для себя того, что есть у Другого. Чтобы стать политически активным, вы должны хотеть чего-то для себя. «Бояться плохой жизни больше, чем смерти», — как это красиво выразил Брехт. Опять же, постмодернистской идеологии свойственно, что Другому доступны некие невообразимые и бесконечные удовольствия, которые недоступны нам. Первый материалистский шаг — понять, что не существует никаких бесконечных удовольствий. Второй состоит в том, чтобы осознать, что их можно разделить в коллективном сплочении. Счастье Другого — не помеха для моего собственного, а предпосылка к этому. Поэтому, как говорил французский философ Ален (настоящее имя — Эмиль Шартье, — прим. Enter), счастье — это социальная обязанность.
— Можно ли говорить о том, что зависть и желание делать комплименты имеют схожую природу?
— Абсолютно нет. Зависть — постмодернистское явление. Желание делать комплименты как проявление благородства противоположна зависти и имеет отношение к модерности.
— В одной из глав вы пишете о том, что взрослым можно стать только тогда, когда человек способен раздвоить взрослость и разум. Что вы имеете в виду под этим?
— Вспомните, как себя ведут маленькие дети, когда открывают для себя взрослую рациональную жизнь. Они начинают вести себя как взрослые, но делают это смешно: они постоянно пытаются пребывать в этой роли, но не понимают, почему сами взрослые делают такие глупые вещи, как подшучивание или влюбленность. Эти дети — взрослые, но в инфантильной форме. Чтобы быть взрослым, нужно быть им по-взрослому: раздвоить взрослость и разум, то есть позволить время от времени себе делать маленькие безумства и глупости.
— Вы пишете, что сфера искусства переполнена механизмами торможения для деятельности художника: институтом кураторства, академиями художеств, рынком и так далее. Существует ли реально в этой системе искусство прямого действия как альтернатива?
— Увы, нет. Но я думаю, люди все больше устают от того, что проталкивают кураторы, и жаждут искусства, которое не вписывается в установленные представления о социально и морально приемлемом.
— Есть ли что-то общее между двумя тезисами о любви из вашей книги: «изначально любят того, кто кормит или защищает» и лакановское «любить — значит дарить того, чего не имеешь (тому, кто этого не хочет)»?
— Нет. Если говорить на языке психоанализа, они принадлежат к двум разным стадиям сексуального развития. Фрейд отмечает, что на раннем этапе сексуальное желание слабое и открывает свой путь к объекту только через инстинкт самосохранения. Поэтому первой любовью становится тот, кто вскармливает ребенка. Только позже сексуальное желание достигает самостоятельности и становится возможным нарциссический выбор объекта, когда человек выбирает того, кем хочет стать или кем был (милым ребенком) и так далее. Только в таких условиях возникает влечение, но не ради того, чтобы получить еду и другие блага, а потому что он желаем. И когда Другой отвечает на это желание, он или она отдает то, чего у него или ее нет. Они отдают свое желание — то есть стремление к чему-то, а не владение чем-то.
— Есть ощущение, что материалистический подход позволяет более оптимистично смотреть на наше будущее, чем идеалистический.
— Я думаю, формула Антонио Грамши «Нам нужен пессимизм интеллекта, оптимизм воли» — неплохое правило для материалистической этики. С одной стороны, материалистическая философия это упражнение видеть вещи «разочаровавшимся» взглядом. С другой, материализм базируется на принципе, что у нас есть только один мир. Это означает, что счастье, истина, равенство и так далее возможны в этом мире, и что нет никакого трансцендентального барьера, который делает их невозможными или отделяет одно от другого («смешно, но неправда», «слишком красив, чтобы быть настоящим»).
— Что для вас как для философа является критерием правильности?
— Эти принципы довольно четко определены в любой деятельности, которая имеет дело со знанием: например, эмпирические методы, правила логического умозаключения, правила журналистского расследования и так далее. Проблема возникает только тогда, когда мы говорим о чем-то как об абсолютно истинном. Здесь мы сразу сбиваемся с пути. Это происходит не из-за размера проблемы, с которой мы сталкиваемся, а скорее от скудности наших абстрактных подходов. Опять же, материализм учит, что истина доступна, и что сотни истин производятся каждый день в разных областях знания. Спрашивать о том, найдем ли мы «настоящую истину», настолько же глупо, как если бы мы спросили, была ли у нас «реальная стиральная машина», «реальный компьютер» или «реальный автомобиль».
— В чем, на ваш взгляд, причины всех этих проблемных отношений к наслаждениям?
— В недостатке социальной сплоченности и солидарности, которая порождена неолиберальной экономикой и поддерживающей ее постмодернистской идеологией.
Фото: oetzlinger.at, ozon.ru
все материалы


