Автор: Луиза Низамова
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. На этот раз героиней рубрики стала художница Дарья Скрипаль, которая недавно открыла свою первую персональную выставку в пространстве Werk. Enter встретился с Дарьей, чтобы поговорить о страхах, внутреннем саботере, эмпатии и том, как тренер личностного роста может вдохновить на создание выставки.


Дарья Скрипаль — художница. Родилась в Казани в 1996 году. Училась в художественной школе и школе дизайна. Оформляла афиши для вечеринок «Изоленты» и музыкальные обложки. В последние два года работает с большим форматом и недавно создала серию полотен «Искажение» для своей первой сольной выставки.
— У тебя открылась выставка «Искажение». Как долго ты готовила этот проект?
— Я задумалась об этом примерно в начале августа. Получилось так, что все мои работы, в том числе и те, которые я сделала еще до появления идеи о выставке, оказались связаны со страхами, — в том числе и со страхами близких. Все ощущают их, но мало кто об этом говорит. В феврале в моей жизни был период, когда на меня давили разные обстоятельства, и, хоть я и понимала, что единственный выход из ситуации — облегчать страдания через искусство, в голове тогда была полная каша. Я стала заниматься с тренером личностного роста. Назвать его психологом сложно, но обычно я так выражаюсь, потому что понятие «тренер личностного роста» людям кажется чем-то подозрительным.
Благодаря ему я начала думать об этом проекте. У меня накопилось достаточно много работ и я понимала, что не хочу их продавать. Руслан Чижов (сооснователь музыкального арт-пространства Werk, — прим. Enter) уже давно говорил, что хочет сделать мою персональную выставку. Я не сразу осознала объем работы и пришлось приложить усилия, чтобы отрефлексировать свой опыт, потому что поначалу было сложно даже давать названия картинам. Ощущение неуверенности, которое было у меня в начале пути, знакомо многим людям: кого-то оно беспокоит во время общения, а кого-то, например, на работе. Я подумала, что об этом стоит рассказать. Выставка — большая благодарность в том числе и моему тренеру.
— Какое чувство ты испытала после того, как собрала серию «Искажение» и осознала готовность поделиться ею со зрителем?
— Мне не верилось, что это произойдет. Наверное, я осознала, во что все это вылилось, только когда увидела все работы вместе. Каждая картина имеет описание, где указано, какому страху она посвящена. Для меня главное, чтобы люди это поняли.
— А как ты могла бы объяснить феномен появления круга художников вокруг пространства Werk?
— Могу рассказать свою историю. Мне кажется, она похожа на истории остальных художников. В то время, когда еще не было Werk, а существовала только «Изолента», я уже начала писать картины. Мы сидели с подругой в баре, я показывала ей свои работы. Она посмотрела и сказала: «Это же обложки для винила!» За соседним столиком сидел Винер (музыкант, сооснователь лейбла Get Busy, — прим. Enter), подруга взяла мои работы и отнесла ему. Я так застеснялась! Я же никому, кроме своих близких, ничего не показывала. Винеру понравилось, и он сказал: «Давай ты сделаешь для меня обложку». Я согласилась. Потом мы встретились в «Смене» для того, чтобы утвердить варианты обложек. Тут же я познакомилась с Сашей Левиным (сотрудник арт-пространства Werk, — прим. Enter) — он сказал, что мои работы крутые, и предложил сделать обложки к «Реверсу» (серия вечеринок «Изоленты», — прим. Enter).
Через неделю мы встретились с Сашей и Русланом Чижовым. Они поинтересовались, как я делаю свои работы, как достигаю такого эффекта мазков. В «Смене» как-то была лекция о композиторе Джоне Кейдже, и там показывали фрагменты фильма, в которых он использовал подручные инструменты (похоже, речь идет о препарированном фортепиано, — прим. Enter). Его в этом никто не понимал. После этого я подумала: а что у меня лежит поблизости? — валик. Его и взяла, чтобы написать картину. Я рассказала все это ребятам, и они не посмотрели на меня странно, а наоборот, поняли и приняли, за что я им благодарна. И я думаю, что с остальными художниками, которые работают внутри Werk, то же самое. Все они находятся там, потому что их понимают, в них верят.
— Как формировался твой язык — с этими отсылками к уличной эстетике ободранных стен и экспрессивностью?
— Я ходила в художественную школу, но не закончила ее. Писала маслом, акрилом и гуашью, и поначалу это было из разряда «пишу то, что вижу». Мы с семьей жили в частном доме, поэтому я часто писала пейзажи. Однажды мне подарили цветы на восьмое марта, и в голову пришла мысль: а может быть, изобразить цветок как-то по-другому? Так все и началось. Потом были эксперименты с цветом, материалами, появилась обшарпанность. Я вижу что-то в интерьере, например, какой-то ободранный угол, он мне нравится, и это как-то неосознанно откладывается в памяти.
— А ты не думала о том, чтобы поработать в уличном пространстве?
— Мне интересно уличное искусство, но меня согревает мысль, что работы будут висеть дома, в тепле, — совсем как человек. Картины — мои дети. Я не могу понять, что будет с моей работой на улице. Это неблагодарное дело, потому что, скорее всего, ее быстро уберут. Даже написать что-то баллончиком считается вандализмом, что для меня лично очень странно. Я не думаю о том, понравятся мои картины кому-то или нет, а просто переживаю, что с ними будет.

— Важно ли для тебя как для художницы место, в котором ты находишься?
— У меня был период, когда очень сильно хотелось уехать отсюда. И я думала, что следующим городом точно будет Москва. А в последние месяцы решила, что не хочу переезжать в конкретное место, не хочу быть привязанной к нему. В Казани мне достаточно комфортно работать. Вопрос только в том, чтобы решиться и поездить по России.
— В языке абстрактных художников зачастую присутствует то, что я назвала бы «единицей измерения» живописи: например, у Злотникова это сигнальная система, а Поллока мы узнаем по брызгам краски. А как ты назвала бы единицу своей живописи?
— У меня есть три любимых цвета — черный, красный и белый — и с ними я могу, хочу и умею работать. Они преследуют меня еще с детства. Мы гуляли с папой по ночам, рассматривая природу вокруг. Он говорил: «Выбирай цвета», — и я всегда выбирала черный или красный, потому что ночью видно мало цветов. Что касается техники, то это просто огромные мазки. Если присмотреться, мои работы текстурные. Многие говорят, что красный — цвет страсти, и что в моих работах ее много. Не знаю, так ли это на самом деле.
— Какое самое первое произведение искусства ты помнишь?
— Родители нечасто водили меня в музеи и были против того, чем я занимаюсь. Они забрали меня из художки и устроили в школу художественной гимнастики. Во время учебы в обычной школе мы ходили в государственные музеи, и мне всегда было интересно, как лежит масло на холсте, сколько художники вкладывают сил и времени в свои полотна и так далее. А потом в какой-то книге я наткнулась на информацию, что человеческий глаз уникален. Если нескольких художников попросить нарисовать одно и то же, то у всех получатся разные изображения. И я подумала, что это любопытный факт и нужно его как-то использовать.
Я мало ориентировалась на других художников и в основном писала так, как чувствую. И мне, конечно, есть куда стремиться. Уверена, что это процесс, который никогда не остановить — главное просто начать.
— Кто такой художник?
— Это сложный вопрос, учитывая, что все они абсолютно разные. Я бы, наверное, сравнила их с писателями. Есть множество художников, которые о чем-то говорят. Я думаю, что живопись — средство общения для них. Опыт созерцания таких произведений можно сравнить с чтением чьей-нибудь биографии.
— Этот год постепенно близится к своему концу. Каким он, 2020-й, запомнится тебе?
— Можно было бы сказать, что год странный, но мне все эти странности нравятся. На самом деле все зависит от того, как ты смотришь на вещи. В первую очередь необходимо прокачаться самому, чтобы каждый год был для тебя легким, насколько это, конечно, возможно в конкретной ситуации. Если ты испытываешь дискомфорт, то нужно ее пересмотреть.
— Что тебя больше всего вдохновило в последнее время?
— С уверенностью скажу, что вдохновляюсь людьми. За мной есть такой грешок: я часто влюбляюсь. Раньше для меня это было чем-то непозволительным. При этом не хочу сказать, что не нужно привязываться, — просто нужно уметь отпускать. Я часто ставлю себя на место других людей, и мне кажется, теперь лучше их понимаю.
— Тогда получается, что твой проект «Искажение» еще и про эмпатию?
— Да. В этом проекте я «спрятала» все свое окружение, поэтому он, в том числе, о сопереживании близким. Бывали ситуации, когда я не знала, чем им помочь. Три заключительные работы посвящены конкретным людям, которым я помочь не в силах, — только они сами могут это сделать. Думаю, если они прочитают тексты, то поймут все сами. Конечно, имен я бы не хотела называть.
Если провести опрос, корни проблем многих в нашей стране произрастают из детства. Страшно представить, сколько людей портят друг другу психику, и ужасно, что это мешает им двигаться вперед. Это как фундамент строить: если у тебя одного кирпичика не хватает, дальше дело не пойдет.

— Какие самые частые страхи людей ты выявила, работая над проектом?
— Самый популярный — это, безусловно, неуверенность в себе, которая порождает мысли в духе «да кому моя работа (творчество) нужна?» А это надо, в первую очередь, тебе самому. Бывает, что люди сильно боятся чужой оценки и зарывают себя из-за этого все глубже и глубже. Распространены страх перед родителями и страх быть брошенным.
Есть такое понятие — «саботер». Он может проявиться, когда ты чем-то занимаешься: сначала все в порядке, а потом вдруг начинаешь думать, что это никому не нужно. И этот саботер — голос, который спорит внутри тебя, так или иначе заставляет двигаться. Ты подкармливаешь его каждый раз, как только подступаешься к чему-то новому. Но я считаю, что лучше сделать, чем не сделать и жалеть — даже если результат никому не понравится.
— Ты рассказала про неуверенность. А есть что-то, в чем ты точно уверена?
— Если не стремиться максимально использовать все возможности, то нужно хотя бы заниматься тем, что действительно нравится. В мире, где все постоянно меняется, у тебя всегда есть ты сам, и все зависит только от тебя.
— Какое искусство, на твой взгляд, имеет наибольший потенциал? Например, философ Елена Петровская говорит о том, что искусство сейчас возможно только в одной форме — в форме поступка или действия, содержащего политический элемент.
— Для меня самое главное, чтобы оно было искренним, а выбор темы и формы не принципиален. Возвращаясь к политическому искусству, хочу сказать, что оно так же передает переживания людей, как и любое другое. Чрезвычайно важно, что на эти темы говорят, хотя, к сожалению, зачастую история заканчивается довольно грустно для авторов таких проектов, не только художественных, но и журналистских. Большинство людей не высказывает своего мнения по поводу каких-то ситуаций, и искусство — как раз возможность его выразить.
— Помимо круга ребят внутри Werk, за кем из казанских художников ты еще следишь?
— Сложно ответить, потому что в Казани, с одной стороны, много художников, с другой — как будто бы мало. Но работы Лии Сафиной мне очень нравятся. Она, наверное, одна из первых, за кем я наблюдала, когда начала писать картины. Возможно, это все из-за красного цвета на ее полотнах, который очень схож с моим красным — я просто почувствовала что-то родное, и, что немаловажно, искреннее и яркое.
— Ты говорила, что собираешься на днях снять видео…
— На самом деле мы не успели подготовить видео к открытию выставки. Наверное, откажемся от этой идеи, но изначально я хотела, чтобы каждый страх был визуализирован в виде движений человека. Мы не успели до конца продумать сценарий, и лучше сделаем это позже, но качественно. Еще я хочу поработать с инсталляцией. Мне очень нравится Кабаков. Несмотря на мрачность его работ, я всегда нахожусь в странном, но приятном состоянии, когда смотрю на них. Хочу сделать что-то в его духе.
В моей голове будущая инсталляция выглядит как кухня в том доме, где я сейчас живу. Я снимаю квартиру с друзьями, и все они люди искусства. Собираюсь записать наши разговоры на кухне на диктофон и воссоздать атмосферу этого места, как будто ты просто пришел в гости, сидишь и слушаешь, о чем люди говорят. Иногда мы обсуждаем там такие темы, которые, мне кажется, мало кто поднимает. Для полного погружения было бы интересно, чтобы внутри инсталляции еще пахло палочками, которые мы обычно зажигаем. Все чаще думаю о том, чтобы сделать именно это. Не могу сказать, что полностью откажусь от картин — просто хочу получить новый опыт и исследовать другие возможности.
Фото: предоставлены Дарьей Скрипаль
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. На этот раз мы решили поговорить с молодой перспективной художницей Диной Ахметшиной, выступающей под именем Salqin. Enter встретился с Диной, чтобы поговорить о ее работах, вкладе в художественную жизнь в Казани, вечности для искусства, экологии и любви к природе.

Дина Ахметшина

Salqin. Без названия. Полуфарфор, каолин, глазури, пигменты, полимеры, 2019
Salqin — художница-керамистка, арт-директор издания о жизни в Татарстане «Инде». Родилась в Набережных Челнах, работает в Казани. С 2016 года занимается скульптурой из глины. Ее работы можно было увидеть в галерее современного искусства ГМИИ РТ (выставка «Шум города», г. Казань, 2020), ТРЦ «Мега» (Выставка «Искусство в каждой вещи», 2019), на Поволжской отраслевой межрегиональной выставке дизайна и интерьера (Выставка Interioroom, Самара, 2019).

Salqin. Без названия. Полуфарфор, глазури, пигменты и стекло, 2019
— Твой псевдоним (Salqin) переводится как «холодно». Почему ты выбрала именно это слово?
— Когда я только начала заниматься керамикой, то заметила, что в России основной массой людей она воспринимается традиционно — как такое ремесленничество. У меня же было совершенно другое отношение к этому материалу: я осознавала, что у керамики очень большие возможности. Первая ассоциация с глиной — она горячая, так как проходит множество стадий обжига на высоких температурах. И, наверное, в противовес этому я взяла слово «холодно», потому что не хотела, чтобы мои работы ассоциировали с чем-то ремесленным и утилитарным. Хотя когда я только-только начинала, делала какие-то простые объекты вроде тарелок, чтобы набить руку и понять материал. Плюс ко всему, я больше люблю работать со светлыми оттенками, и они обычно получаются достаточно холодными.
— Глядя на твои работы, сложно отделаться от впечатления, что они будто подняты с морского дна. Откуда взялась эта водная зооморфная образность?
— Я неоднократно слышала про морское дно, потому что, если посмотреть объективно, скульптуры действительно напоминают морских обитателей, но у меня никогда не стояло задачи перенести на глину что-то уже существующее. Я абсолютно точно вдохновляюсь природой, и все мои работы — о влиянии человека на нее и наоборот, хотя в них еще и много моих личных переживаний и фиксации психоэмоциональных состояний. Очень часто скульптуры получаются какими-то хищными (смеется, — прим. Enter), и даже когда была выставка в ГСИ, это многих отталкивало: я четко видела, что людям становится не по себе от всех этих щупалец и так далее.
Почему они похожи на морские объекты? Я вижу в них не только это. В подростковом возрасте я увлекалась научной фантастикой, и, видимо, просто насмотрелась этих фильмов. Там ведь тоже много плавных, биоморфных форм, и, возможно, это отложилось у меня в подсознании, и сейчас обнаруживается таким образом. Я не делаю этого сознательно.
— В последнее время происходит очень любопытный поворот человека в сторону природы, я бы даже ассоциировала это явление с новым витком нью-эйджа. А почему ты работаешь с природными образами?
— Знаешь, я тоже заметила эту тенденцию в своем круге общения — мы там все примерно одного возраста. Я придерживаюсь мнения, что человек приходит к природе осознанно только с возрастом. В детстве, когда родители меня возили на дачу, я совершенно не любила копаться в земле. Пропалывать сорняки было совершенной пыткой. А сейчас с каждым годом мне сильнее хочется выбраться на природу. Я точно решила, что у меня будет дача. Ты устаешь от техногенности города и хочешь тишины, если ведешь активную социальную жизнь. А отдохнуть полноценно можешь только на воздухе. И чем больше я начала выбираться на природу, тем больше стала замечать ее красоту.
Так или иначе вся моя жизнь связана с визуалом, и мне доставляет удовольствие подмечать, например, какие-то текстуры на деревьях. В последнее время я сильно увлеклась грибами (не в том смысле, в каком можно было подумать): существует большое количество их видов, каждый по-своему уникален и очень красив. В инстаграме я часто просматриваю аккаунты с изображениями грибов. Мне кажется, они недооценены в нашем обществе.
Я обеспокоена в том числе и ситуацией с экологией, и многие мои объекты, как я уже говорила, достаточно хищные. Наверное, наиболее явно это видно в одной моей скульптуре, где через бутон цветка прорастают щупальца — словно ответ природы на вмешательство человека в нее. Я ощущаю, что природа сильнее человека, и верю, что он не сможет окончательно погубить ее. Она все равно даст отпор. Она дает — это заметно.
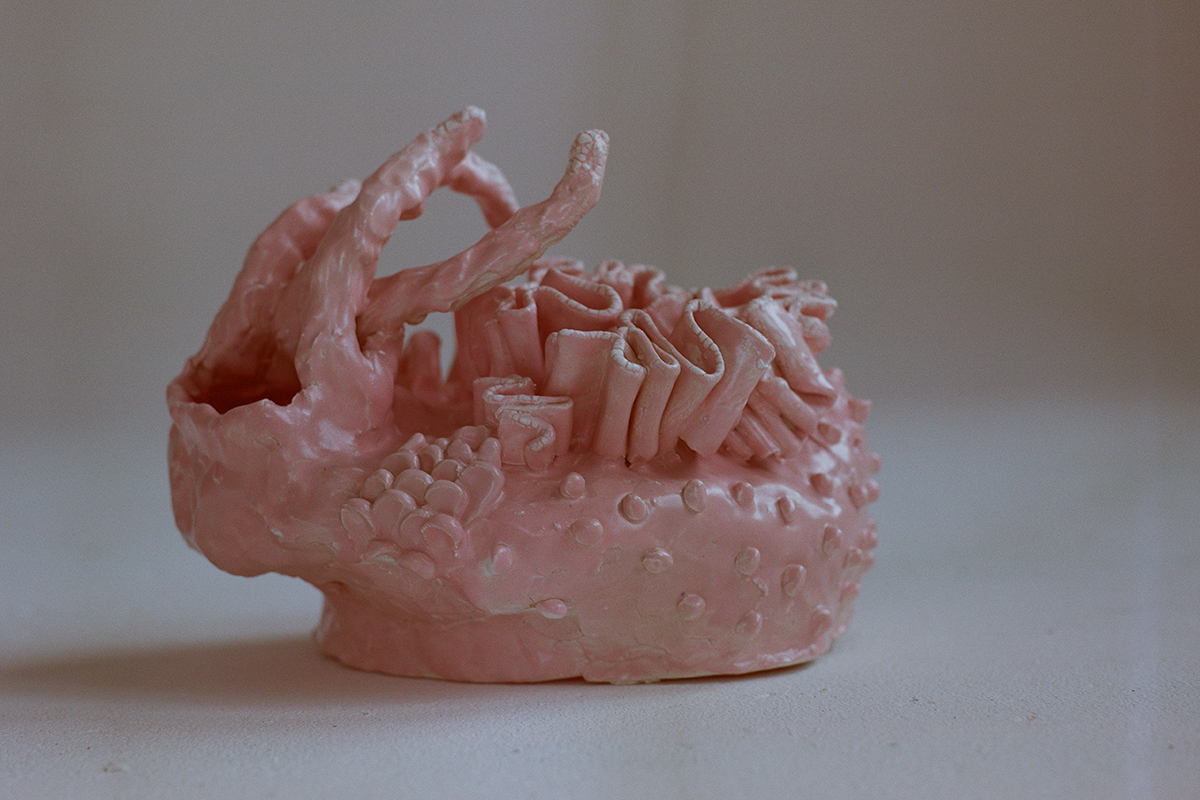
Salqin. Без названия. Керамическая масса, сатиновая белая глазурь и пигменты, 2019
— Твои скульптуры явно отсылают к живым формам. Стоит ли за их формой идея о необходимости ухода от бинарности гендера?
— Я вкладываю в свои работы эмоции — нормальные проявления человеческого, которые не имеют пола. Но акцента на отсутствие гендера я не делаю.
— Как ты работаешь над скульптурой? Делаешь ли карандашные наброски перед тем, как начать работать с формой?
— Иногда образы рождаются в неподходящий момент, когда я нахожусь, например, на работе, и в таком случае делаю зарисовки, чтобы потом не забыть. Но чаще всего это бессмысленно, потому что, как уже говорила, я фиксирую свои внутренние ощущения, которые постоянно меняются. Иногда от изначальной задумки к концу работы уже ничего не остается. Помимо этого, глина — очень капризный материал, и не всегда позволяет сделать то, что ты хочешь. Она, как любой природный материал, стремится вернуться к своей первоначальной форме. С ней бывает сложновато работать, поэтому у меня ощущение, что у нас дуэт — я и глина. Иногда она подсказывает, что нужно сделать. В процессе работы я не анализирую такие вещи, как композиция, например. Беру в руки в глину, кручу-верчу ее, и таким образом проходит часов семь, а я даже не замечаю этого. Уже потом я разглядываю вещь и думаю: это похоже на гриб, а это — на коралл.
— Существует один древний миф, в котором рассказывается, что человек был создан из глины. А что связывает тебя с этим материалом?
— Глина — один из немногочисленных материалов, которые археологи находят при раскопках. Она сохраняется тысячелетиями. Мне хотелось заниматься чем-то, что будет жить долго, я хотела, чтобы мое творчество не кануло в лету. Возможно, следующие поколения найдут что-то из моих произведений — пусть это будут даже черепки. Если скульптура разобьется, она не исчезнет полностью, и эта мысль меня привлекает. Когда я впервые взяла в руки глину, то поняла, что мне очень приятно работать с этим пластичным материалом.
Я очень давно хотела заниматься керамикой, и, приехав в Казань, сразу стала искать обучающие курсы. Наткнулась на Евгения Васильевича, гончара из Свияжска, чудесного, доброго и открытого человека. Он взял меня под свое крыло, и я ему очень благодарна. Предоставил мне глину на круге, и со временем я поняла, что гончарка мне не очень интересна. У меня появилась своя мастерская, за что спасибо ребятам из Qullar. Я начала закупать глину, стала заниматься ручной лепкой. Училась методом проб и ошибок: у меня многое взрывалось, возникали трещины, подтеки.
Кстати, в России большие проблемы с материалами: очень сложно найти интересные глазури, которые доступны в Японии, например. Конечно, керамисты, которые всю жизнь этим занимаются, сами получают все покрытия. Но в Казани нет места, куда можно прийти и купить даже ингредиенты-исходники для работы с керамикой — нужно заказывать все в Питере и Москве. Приходится выкручиваться: однажды я собирала цветное стекло со свалки, потом находила художников, которые занимаются витражами, и покупала осколки у них. Например, есть вулканическая глазурь, и ее у нас невозможно купить. Знающие люди рассказывали, что нужно смешать марганцовку с каолином и так далее, затем протестировать полученное вещество в разных пропорциях, пока не будет достигнут нужный эффект. Эти поиски могут растянуться на полгода.
Глина — необычный выбор для меня, потому что я очень нетерпеливый человек: мне нужен результат прямо здесь и сейчас. А с моим материалом это невозможно, потому что он требует долгих этапов работы — сушки в течение нескольких суток, обжига, декорирования. Мне был нужен какой-то материал, который меня заземлит и научит терпению. При этом я стараюсь много экспериментировать и работаю со стеклом и металлами. Хочется сейчас интегрировать более современные материалы, комбинировать их с глиной, и не останавливаться только на керамике и поработать с бетоном, эпоксидными смолами и полимерами.
— Ты говорила, что надеешься, что твои работы найдут археологи. И здесь, конечно, сразу возникают ассоциации с античностью, потому что это культура, которая была раскопана одной из первых. А у тебя есть любимые герои античных мифов?
— В детстве я, конечно, любила мифы Древней Греции, но меня всегда больше тянуло к Древнему Египту. Но мне нравились женские персонажи. Афина — наверное, потому что я с детства вдохновлялась образами сильных, воинственных женщин. Возможно, еще Персефона, потому что мне нравилась та история с Аидом (имеется в виду миф о похищении Аидом Персефоны, — прим. Enter), хоть она и довольно странная.
— О каких особенностях работы с керамикой ты могла бы рассказать начинающему художнику?
— Керамика — очень непредсказуемый материал. Особенно это касается работы с глазурями: это целая наука, и тут нужно быть хорошим химиком, понимать технологию. В первую очередь я бы хотела посоветовать художникам не расстраиваться из-за неудач, которые происходят в печке. Например, ты работал несколько недель над скульптурой, вложил в нее всего себя, свое время, материалы, и на последнем этапе открываешь печку, а там все взорвалось. Или хотел добиться определенного эффекта или цвета, а глазурь повела себя совсем по-другому, хотя до этого на тех же температурах, режимах обжига она вела себя иначе. Минус в том, что очень часто из-за этого теряешь работу, а плюс — может появиться какой-то эффект, которого ты не ожидал, а он тебе вдруг понравился. Глазурь может как-то интересно вспузыриться или смешаться с другой глазурью, может получиться новый цвет с крапинкой, размывы или интересная текстура. Я уже приняла эти особенности материала, а в начале у меня могли возникать мысли: «Ну, наверное, лучше заниматься чем-то более простым».
— Скульптура — вид искусства, который требует соблюдения определенных, отличных от, скажем, живописи и графики, правил при экспонировании. Были ли у тебя связанные с этим сложности во время организации выставки в музее?
— Основная сложность связана с транспортировкой, потому что, несмотря на свою долговечность, керамика очень хрупкая. Довезти ее в том виде, в котором она должна экспонироваться, сложно. У меня была выставка в Самаре, и обратно мне привезли разбитую скульптуру — на нее упала картина. На данный момент я полностью принимаю эту особенность материала, но сначала расстраивалась, потому что это была одна из моих любимых работ.
— Как ты определяешь для себя понятие «художник»?
— Это сложный вопрос, который порождает вечные споры. Если не углубляться, то, в первую очередь, это человек, который, базируясь на опыте предыдущих поколений художников и современников, создает нечто принципиально новое. Художник должен что-то привносить в этот мир.

Salqin. Без названия. Керамическая масса с чёрным пигментом и сборчатая глазурь с пигментами, 2020

Salqin. Без названия. Керамическая масса, сатиновая белая глазурь, пигменты и стекло, 2019
— Есть ли художники, которые для тебя были важными, когда ты только начинала?
— Если мы говорим о керамике, то мне очень нравятся японцы, в первую очередь Такуро Кувата. Он экспериментирует с материалами и инструментами. Очень вдохновляют его опыты с глазурями, и визуальный язык этого художника мне интересен. Есть еще российская художница, дизайнер, керамистка Асия Бареева — она тоже, очевидно, вдохновляется природными формами. Люблю работы Дэвида Алтмейта — он использует разные материалы, в произведениях прослеживаются в основном антропоморфные формы, изображения человеческих лиц. Работы у него достаточно жуткие, а я люблю всякую жуть (смеется, — прим. Enter). Я иногда подхватываю у него какие-то фишки, например, подсматриваю определенные техники. Еще меня вдохновляет керамист Даня Антропов.
— За кем из казанских художников ты следишь?
— Честно признаться, я нечасто слежу за казанскими художниками и больше ориентируюсь на западных и азиатских. Они работают на более высоком уровне, чем многие российские художники. Есть, конечно, яркие представители в Казани, и мы их всех знаем: Лия Сафина, Сережа Котов, ребята из Watch Me, Лев Переулков. Также Alesha Art — не могу сказать, что мне близко его творчество, но он очень хороший маркетолог.
— Как ты выстраиваешь свой график? Ведь ты не только художница, но и арт-директор большого издания.
— Это больная тема (смеется, — прим. Enter). К сожалению, очень трудно совмещать, и в первую очередь из-за времени: в работе с керамикой есть такая особенность, что ты не можешь приехать в мастерскую, поработать там час и затем уехать по своим делам. Если ты начинаешь работать над скульптурой, то это как минимум на полдня — пока глину разомнешь и так далее. Мне удается заниматься скульптурой в основном в выходные. Возможно, поэтому я довольно редко создаю скульптуры. В процессе я очень многое бракую. Наверное, еще важен тот фактор, что у меня творческая работа, которая вытягивает много сил и не оставляет внутренних ресурсов на другое творчество. Иногда полезно себя преодолеть, приехать в мастерскую и начать работать, и тогда все может пойти как по маслу. Бывают продуктивные дни, когда я могу вылепить две скульптуры, а бывают дни, когда я не могу сделать ни одной.
Нужно давать себе время на отдых. Существует еще определенное социальное давление, когда все ожидают, что ты будешь как на конвейере выдавать стабильно в месяц по скульптуре. Но это так не работает, к сожалению. Надо позволять себе делать то, что ты хочешь, а если будешь заставлять себя, то ничего из этого хорошего не выйдет. Я была бы рада, если бы мне самой кто-то дал совет от выгорания, потому что это действительно актуальная тема.
— Как ты прокомментировала бы недавнюю ситуацию с реакцией казанской публики на скульптуры Дмитрия Каварги?
— Мне очень нравится этот художник, я была на его выставке, которая проходила в «Бизоне», но конкретно об этой ситуации не слышала. Я не удивлена такой реакции. Это реалии, с которыми я боролась бы, если могла. Это проблема восприятия искусства обществом в широком смысле, а не теми узкими кругами, в которых мы с тобой находимся. Для многих искусством до сих пор является только академическое — Репин, Серов — а дальше они не хотят ничего видеть. Такого мнения об искусстве придерживаются, скорее всего, пожилые люди, и им бесполезно что-либо объяснять. Надеюсь, что скульптуры никто демонтировать не будет.
— Мне лично было обидно, что самый громкий отзыв на выставку оказался от людей, которые к искусству никакого отношения не имеют (речь о жалобе от КПРФ, — прим. Enter), я ожидала более активной реакции от профессионального сообщества.
— Мне просто кажется, что у нас это сообщество довольно вялое.
— Я тоже наблюдаю некоторую его индифферентность по отношению к происходящему.
— Меня расстраивает, что в регионах организация культурных событий обычно находится в руках старшего поколения, которое, может быть, все еще живет по каким-то старым правилам. Мне обидно, что молодым активным ребятам, которые к этому ближе, не дают дорогу. К счастью, в Казани в других сферах — можно проследить это на примерах «Смены» и Дирекции парков и скверов — работа молодых специалистов в культуре дает какие-то плоды, но в сфере искусства этого, к сожалению, пока нет.
— Какие у тебя планы на ближайшее будущее?
— Что касается планов по работе с материалами, то я уже сказала об этом ранее, а что до личного продвижения, то сейчас я занимаюсь сбором своего портфолио — хочу сотрудничать с московскими галереями. Кажется, уже пора выходить за рамки Казани и, может быть, даже России. Нужно понимать, что здесь искусство не покупается в таких масштабах, как на Западе. Во время поездки в Берлин я заходила практически во все галереи, где видела керамику, и, на мой взгляд, многие работы были слабее, чем то, что делают российские художники, однако там на это есть хороший спрос. В России этого нет, потому что 80% населения думает о том, как оплатить ипотеку и прокормить семью — в такой ситуации уже не до искусства.
Фото: Предоставлены Диной Ахметшиной
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. На этот раз героем рубрики стал фотограф Тимур Хадеев.
Enter встретился с Тимуром, чтобы поговорить о его первых снимках, старых мастерах фотографии и связи с городом.
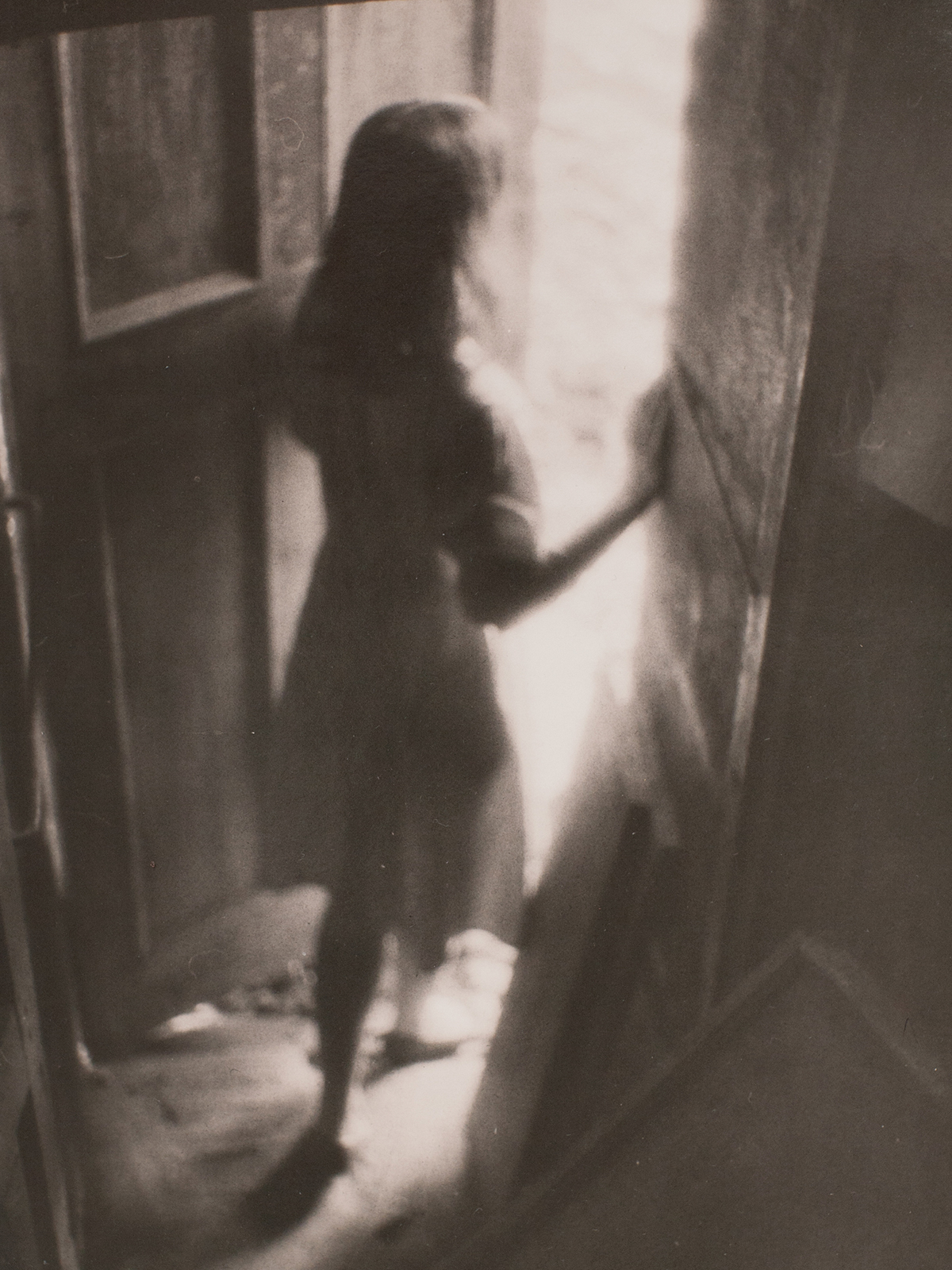
Навстречу свету. 2013. Лит-печать

У стены. 2018. Лит-печать

Портрет. 2017. Лит-печать
Тимур Хадеев (р. 1985) — фотограф, живущий и работающий в Казани. Город и люди в городе — основные объекты его съемок. Тимур сконцентрирован на социальных и физических изменениях города, на портретах, а также на классической ню фотографии. Работает в разных техниках: цифровая и аналоговая фотография, также использует альтернативные фотопроцессы. Через фотографию Тимур реагирует на события вокруг него: актуальные и растянутые во времени.
Его работы находятся в постоянной коллекции Русского музея в Санкт-Петербурге; в частных коллекциях в Москве и Казани. С 2017-го Тимур читает открытые лекции о фотографии. Из последних выставок: «Мергасовский. Flashback» (ГСИ ГМИИ РТ) Казань, 2019; «V Фотобиеннале современной фотографии» (Русский музей) Санкт-Петербург, 2019; «Москва — Казань — Москва», (галерея «Царская башня») в рамках проекта «Россия. Research», Department of Research Arts, Москва, 2018.
— Ты помнишь свой первый снимок?
— Думаю, это был один из кадров, сделанных на «ЛОМО-Компакт-Автомат» — фотоаппарат, подаренный отцом еще в детстве. Даже сохранилась самая первая пленка, которую я снял и проявил. Ничего не печатал с нее, так как печатать оттуда было особенно нечего. Скорее всего, я знаю, что это за снимок. Но я не считаю его и всю эту пленку первой. Это осталось просто экспериментом.
А первый осознанный снимок тоже сделан в детстве. В 90-е у меня появилась мыльница — как и у всех, наверное. Это случилось, когда в стране пошла первая волна новой любительской цветной фотографии вместе с приходом сервисов от Fuji, Kodak, Konica — фотолабораторий с минилабами. До этого времени в каждой семье был кто-нибудь, кто занимался съемкой важных событий: праздников, дней рождения. Он обычно печатал черно-белые снимки небольших форматов где-то в коммунальной квартире, ночью, на кухне или в ванной комнате, при красном свете на советской технике. Процесс долгий и неудобный, но это считалось интересным хобби.
Фотографией интересовались многие, потому что это был один из немногих способов самовыражения. Это занятие не особенно критиковалось и к тому же не считалось искусством как таковым. По этой причине никто не предъявлял особых требований к фотографии — ну, вроде лицо на снимке видно, уже хорошо. И на контрасте с этим появились сервисы, которые за час делали цветные снимки — немыслимо. До этого цветные снимки обычному человеку возможно было сделать только в фотоателье, но тут монополия этих заведений исчезла. Люди стали печатать цветные картинки массово.
В середине 90-х я получил от отца мыльницу, в общем-то, ничем не примечательную. Я зарядил пленку и помню, что долго на нее снимал. Когда учился в классе шестом или седьмом, в школе проводился фотоконкурс. О нем я узнал слишком поздно. В тот момент я писал реферат на тему кошек, и для него нужна была фотография самого животного. Спустился на первый этаж своего дома, увидел кошку. Когда я подошел к ней, чтобы сфотографировать, она будто начала позировать мне: встала на задние лапы и передними уперлась в дверь. Я подумал: «Ну, хорошо, красиво». Я даже помню цвет ее окраса — палевый. Я вклеил эту фотографию в реферат, сдал его, получил оценку и успокоился.
Через какое-то время я увидел на стенде с расписанием уроков результаты фотоконкурса — там висела моя фотография той самой кошки. Я очень удивился, потому что занял первое место. Как это получилось? Учительница биологии решила эту фотографию из реферата отправить на фотоконкурс — ей хотелось, чтобы все увидели позирующую кошку. Это первый кадр, сделанный мной с целью и получивший свою аудиторию.
— В фотографии ты используешь разный язык — от исчезающих образов в стиле Франчески Вудман до атмосферы Атже, при этом постоянно экспериментируешь с материалами и со способами проявки. Что в фотографии все-таки для тебя самое важное?
— Когда я вижу снимки других фотографов, возникает ощущение, что они выбирают какую-то определенную направленность, стилистическую или жанровую. Я начинал с портретов, сильно углубился в эту тему и в определенный момент понял, что фотография очень разнообразна. Я люблю приводить такую аналогию: фотография — это большой многоквартирный дом. И в каждой квартире люди занимаются разными вещами: где-то съемкой пейзажей, а в этой огромной комнате живут портретисты, здесь предметку снимают, тут — спортивные фотографы. В этом доме происходит много разного, и люди постоянно ходят друг к другу в гости. И показалось, что мне не хочется поселиться ни в одной из этих квартир.
Я больше известен как портретист, но хочется в любой момент времени создавать что-то, не переживая о чужом мнении, если я опубликую, например, пейзаж. Мне искренне интересна фотография как явление. Не хочется ограничивать себя какими-то конкретными жанрами или манерами съемки. Если меня цепляет что-то конкретное, я за это держусь и делаю проект с учетом особенностей жанра или техники. У меня есть серия «На окраинах Казани», где я снимал в определенной эстетике людей с определенной целью. Я никогда не снимал в такой манере, но мне было интересно отойти от знакомых техник.
Фразой «от исчезающих образов в стиле Франчески Вудман… » ты точно уловила то, что я очень люблю мастеров прошлого. Тот же самый Атже снимал свои фотографии не так, как это было принято в его время. Его манера съемки старого Парижа абсолютно особенная; упомянутый тобой сюрреализм определенно присутствует в его работах. Я ощущаю родство с его идеями.
Насколько я помню, Атже снимал для того, чтобы передать потом свои негативы музею, но у него приняли только часть. Зато потом на основе его идей появилась Дюссельдорфская школа фотографии. Рождается преемственность. Корни явлений в фотографии прослеживаются, и было бы странно игнорировать это. Поэтому я очень вдохновляюсь мастерами прошлого. В доме, где я рос, имелось много фотокниг. Это очень повлияло на меня.
Когда я начал думать о том, что хочу показать этому миру, то обратился к опыту любимых фотографов. Что для меня важно в фотографии? Возможность путешествовать из комнаты в комнату в том большом доме, о котором я говорил, и создавать свой контекст творчества, будучи независимым от конкретных жанров или стилей. В то же время я считаю, что некая суть моей фотографии в целом просматривается, красной нитью проходит через разные серии и проекты.
Я владею инструментарием, позволяющим мне быть не ограниченным рамками собственного стиля, и постоянно изобретаю его заново. Мой дискурс в фотографии — это ее медиум. Что я могу с ним сделать? Какие техники мне ещё доступны, что может у меня из этого получиться? Я занимаюсь и альтернативными, старыми техниками типа цианотипии, и альтернативными более современными — имею в виду аналоговую фотопечать, в частности, лит-печать. Мне интересно все, до чего я могу дотянуться.
Момент перехода от жанра, в котором ты со временем становишься интересен (например, как пейзажист или портретист), к изучению самого медиума фотографии был очень освобождающим для меня. В этом смысле вопросы вроде «Почему ты снимаешь на пленку?» или «Чем пленка лучше цифры?» становятся нерелевантными, потому что нет ничего лучше или хуже. Есть что-то, что подходит под задачу и помогает полно донести идею.


Из серии «Старый город». 2017
— Ты с 2009 года снимаешь исчезающие части города. Что у тебя, как у фотографа, изменилось за это время?
— Тут стоит отойти еще немного дальше во времени. Мне было лет пять, и мы часто гуляли с отцом по городу: заходили в мастерские художников, приходили в гости к людям, которые влияли на культуру Казани. Для меня город меняется постоянно, и исчезновения, на мой взгляд, — естественный процесс. Когда я гулял по старой Казани, уже зная, что она уходит, то понимал, что этот процесс начался задолго до моего рождения. По моим исследованиям годов до 60-х не было такого, чтобы дома стояли бесхозно и их никто не реставрировал.
В конце девяностых-начале нулевых мой отец снимал для журнала «Яналиф». Эти снимки четко совпадают с моими воспоминаниями о той Казани. Глядя на них и анализируя свой фотографический опыт с 2009 года, когда я начал снимать вслед за отцом, прихожу к тому, что для меня важен момент времени как такового. Интересует даже не исчезание само по себе, а то, как красиво проходит время. Есть ощущение дискомфорта от того, что отдельные вещи ушли безвозвратно, и другие я даже не могу снять заново, потому что их уже нет. Мало чего интересного приходит на их место.
Ощущение, что ты в находишься в старой версии Word, где нужно постоянно сохранять документ. Нужно постоянно нажимать Ctrl+S, а если не нажмешь, то объект исчезнет или необратимо повредится. Это чувство меня до сих пор преследует. Я гуляю по местам, где раньше ходил с отцом, и понимаю, что как фотограф едва ли могу защитить эти дома. Я могу забэкапить образ дома, и если ко мне обратятся какие-то архитекторы, дам им информацию о состоянии, скажем, наличников зданий на 2014-й год, хотя мои материалы не каталогизированы.
Время уходит красиво. Дома не просто исчезают — это происходит с определенной неизбежностью, фатализмом, а он привлекает меня как фотографа. Я не вижу зданий, которые уходят в данный момент, а вижу только последствия исчезновения. Конечно, если ты начинаешь приходить на одно и то же место, то начинаешь уже запечатлевать и само исчезновение.
— А как будет исчезать новая архитектура?
— Это отдельный контекст. Сам факт того, что новая архитектура соседствует со старой, довольно странный. Изменения, конечно, происходят постоянно. Я часто замечаю, например, отваливающуюся от фасадов плитку. Это происходит довольно быстро, можно наблюдать за этим практически в прямом эфире, и совсем необязательно ждать для этого десять или двадцать лет. Такая архитектура не очень близка мне, я никакого отношения к ней не имею. Приведу в пример Комбинат «Здоровье». Несмотря на то, что период его постройки меня не интересует, само здание имело интересные особенности. Сооружение, которое встанет вместо Комбината «Здоровье», станет для меня чужим. Никакого опыта, привязанного к нему, у меня не будет. Мне ценнее было бы посмотреть, как Комбинат «Здоровье» сам борется с временем.
— Ты рассказывал, что «подобрал» фотоаппарат у своего отца. Как его работы повлияли на твою фотографию?
— Фотографии отца влияют на мою работу, в основном, через его архив. Я занимаюсь им уже много лет. К сожалению, отец не дожил до момента, когда я начал активно снимать, и мне очень не хватает его мнения и разговоров об искусстве. Но я общаюсь с ним через архив, и это во многом помогает. Он дает важную перспективу. Однако, фотография у отца всё же художественная и имеет мало отношения к современным контекстам.
Фотография сегодня является рупором современного искусства, и процесс, описанный в нон-фикшн книгах и в целом дискурс искусства 60-70-х годов, неизбежно формирует контекст и сегодня, особенно в России. У нас, скажем, книги Сонтаг начали переводить относительно недавно. И теперь российские фотографы начинают отходить от чисто художественной фотографии. На меня это все стало влиять примерно в 2012-м после прочтения книги «Фотография как современное искусство» Шарлотты Коттон.
События в моей жизни происходили таким образом, что было невозможно справиться с ними без помощи терапевтических функций фотографии. Она помогла придать мыслям более созидательный вектор. Искусство позволяет уравновесить некоторые эмоции. Марк Ротко просил называть свои полотна храмами. Человек приходит в храм, духовно расслабляется и понимает, что есть в его жизни какие-то более ценные вещи, чем повседневная суета. Он говорил, что на полотне запечатлена его боль, а вы пришли со своей, и в результате взаимодействия наша общая боль делится пополам.

Яна. 2013

Портрет Вани Лимба. 2019
— Как ты чувствовал себя во время изоляции? Что за время изоляции стало объектом твоей фотографии?
— Это вопрос глубоко психологический. Моя работа зависит от сезона: она начинается с конца марта-начала апреля — это время активных съемок. И оно совпало с началом самоизоляции. Получается, ты зафиксирован дома и ничего не можешь сделать. Естественно, ты сохраняешь привычку заниматься съемкой, потому что разные источники информации постоянно подбрасывают тебе «10 идей фотографии на карантине» и так далее.
Я перевез химию и оборудование из студии к себе домой, но все эти установки, что ты должен делать что-то во время самоизоляции, чтобы сохранять фотомышцу, которой ты оперируешь в своем творчестве, частично возымели обратный эффект. В действительности дома очень сложно работать. Там я могу только отбирать кадры, редактировать их, изучать материал. Было сложно перестроиться, но мне все равно удалось сделать несколько снимков. В целом самоизоляция оказалась неприятным опытом для меня. Для художника важно быть эмоциональным и чувствительным, но самоизоляция иногда может привести к потере контроля над этой чувствительностью.
Сейчас появляется много фотопроектов, посвященных этому странному времени. Думаю, это будет важная и популярная тема в фотографии и искусстве вообще. Есть ощущение, что снаружи происходит что-то нехорошее, но играть на этом абсолютно не хочется. Нужно документировать эти вещи в долгосрочной перспективе, потому что идеи проектов, которые создаются прямо сейчас, лежат на поверхности. А чтобы сделать глубокую работу, нужно время. Я не отношусь к таким проектам негативно, они — естественная реакция, так и должно быть. Тут, скорее, разговор о том, что я дистанцировался от внешнего мира и решил заняться чем-то более тихим.
— А вне изоляции с кем из художников и фотографов ты общаешься?
— Это довольно тонкая прослойка людей разных поколений. Например, в ГСИ есть куратор Рамина Абилова — с ней я общаюсь не в общем о фотографии, а о каких-то конкретных вещах. Что-то рассказать и обсудить мне интересно с Ваней Лимбом. Тут вопрос не в том, с кем я общаюсь, а в том, кто готов слушать меня. Я обычно инициирую разговоры. И это чаще всего люди, не имеющие прямого отношения к искусству. Мне интересно мнение разных людей. Есть еще мои товарищи-фотографы: Игнат Цоколаев из Владимира, Феликс Посадский, Евгения Леснова, художница-иллюстраторка Ольга Мясникова.
Я делаю фотостримы, провожу личные встречи, читаю лекции, и на них приходят действительно интересующиеся люди. Мне хочется слышать разное мнение, с кем-то даже поспорить. Ну и, конечно, с кураторами и художниками из других городов тоже всегда важно обменяться мнениями.
— Ты много работаешь с музыкантом и композитором Ваней Лимбом. Расскажи, как вы начали дружить?
— Мы познакомились в 2017-м через Яну Вахитову, она тогда работала в «Штабе». Ваня и Яна однажды приехали ко мне на студию, и мы сделали фотограммы. Тогда возникла мысль использовать этот процесс для создания арта к его релизам, и мы подружились именно на этой почве. Я как фотограф был заинтересован в личности Вани. Часть результатов этих экспериментов составляют его визуальный стиль. Иногда мы делаем что-то музыкальное на импровизационных сессиях.
— Как твои фотографии попали в коллекцию Русского музея?
— Через его фотобиеннале. Она представляет собой достаточно закрытый конкурс, поэтому его не очень любят кураторы, но сам факт того, что Русский музей заинтересован в фотографии, важен. Я отправил пару своих работ и прошел конкурс на участие в выставке, затем их напечатали в каталоге. Последнее действительно приятно, потому что просто создать произведение недостаточно — его нужно еще и показать. Во втором письме от биеннале написали, что мои работы отобраны в коллекцию Русского музея. Попасть туда не так сложно, как выиграть какой-то международный конкурс.
— Нужен ли Казани свой музей фотографии?
— Старшее поколение фотографов давно хотело сделать такой музей в Казани. У них есть помещение, экспонаты, книги, они делают упор на фотожурналистику и рассчитывают на поддержку государства, но оно пока не сильно заинтересовано в этом проекте. «Смена» и ГСИ сделали большой граундворк (подготовили почву, — прим. Enter), но поле их деятельности широко — они работают с современным искусством в целом, а не исключительно с фото. В Казани на данный нет настолько подготовленных людей, которые одновременно понимали актуальный дискурс и при этом были бы в состоянии создать в городе нужную экосистему для фотографического. Не стоит забывать, что для работы такой институции придется искать художников, работающих в поле современной фотографии, а у нас в городе мало кто занимается этим на постоянной основе.
Музей с экспозицией старых фотоаппаратов и книг нужен в каком-то смысле — для работы искусствоведов и общего развития — но это не может конкурировать с красивыми инсталляциями, видеопроекциями, музыкальными ивентами в местах, где кураторы смогли уловить веяние времени. Строить такой музей мне кажется недальновидным, потому что фотография — всего лишь один из медиумов современного искусства. Возможно, формат галереи больше подошел бы в этом случае.
Мне как-то написали люди из «Россия. Research» и выставили проект «На окраинах Казани» в Москве. Они начали смотреть в сторону регионов — и это правильно. Может ли Казань смотреть так же в направлении районов Татарстана в поисках фотографов? Я думаю, это будет сложно, потому что они не определяют теперь себя как республиканских: интернет сделал своё дело.
— Какие у тебя планы на будущее?
— Хочется делать больше проектов в сфере актуального искусства, а не только развивать тему связи молодых людей и старого города. Есть и более приземленные цели — выставиться в Москве и Петербурге на авторитетных площадках. Рассказывать о будущих проектах будет немного бессмысленно, потому что мои идеи постоянно трансформируются во время работы. Как пример вспомню снова «На окраинах Казани»: моя изначальная цель была снять всех своих друзей, друзей друзей и так далее… такой синдром Зандера (Август Зандер — немецкий фотограф, привнесший в жанр портрета документальный реализм; автор колоссального по своему размаху проекта «Люди двадцатого столетия», — прим. Enter).
У меня сейчас в процессе экологический проект, посвященный Казанской Швейцарии. Эта территория может сильно пострадать при строительстве дороги через нее, и я хочу об этом поговорить посредством фото. Хочу продолжить тему исчезновения, про вещи и дальше работать с альтернативными процессами, использовать большие форматы. Планов очень много, но специфика моего творчестве такова, что я перепрыгиваю с одного на другое, чтобы нигде особо не задерживаться. Вопрос только в естественных ограничениях — физических и моральных силах и во времени. Но я думаю, что новые проекты неизбежно появятся, потому что меня укусил фотожук — и все, я фотограф, и теперь это невозможно исправить.
Фото: Предоставлены Тимуром Хадеевым
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. На этот раз героем рубрики стал художник Сергей Котов — известная фигура в казанской иллюстрации. Enter встретился с Сергеем, чтобы поговорить о новых работах о слабости, любимом кино, эскапизме и сновиденческом искусстве.


Сергей Котов — художник-иллюстратор. Родился в Нижнекамске в 1993 году. Работает в Казани. Рисует с детства, изучал академическую живопись в МГАХИ им. Сурикова. Работает с интернет-изданием «Инде». В феврале 2020-го участвовал в групповой выставке графики «С белого листа» в культурном центре «Московский».
— Где ты сейчас находишься?
— Я нахожусь дома, если мы говорим о материальном измерении, — в своей прекрасной светлой комнате, наполненной растениями. Если о метафизическом, то я, конечно, в себе, как и все мы, наверное.
— Это же и твоя студия, получается?
— Студии у меня как таковой нет, но я уже думаю о том, что было бы здорово обзавестись дополнительным пространством. Так как я до недавнего времени в основном работал на малом формате, то места много и не нужно было. Я всю сознательную жизнь после приезда в Казань переезжал с квартиры на квартиру, и с большим форматом работ это было бы неудобно. А так ты тут все свои художественные пожитки в одну коробку сложил и двигайся куда хочешь. Мне достаточно стола и сканера. Сейчас я рисую дома.
— Что окружало тебя в детстве?
— Банально отвечать, что все дети рисуют с детства и наслаждаются этим. На самом деле все шло своим чередом. Не могу сказать, что принимал какие-то радикальные решения, продумывал хронологию своей жизни, нет. Я всегда стараюсь жить настоящим, и так, наверное, с самого детства. В школе у меня еще был вариант связать свою жизнь с языками, потому что это давалось достаточно легко и безумно интересовало, но, наверное, стремление к нонконформизму и юношеский максимализм направили на дорогу художника.
— Сейчас ты работаешь в основном на малом формате и на бумаге. Чем обусловлен этот выбор? Что предшествовало твоим работам в цветной графике?
— Сначала художественная школа — безумно комфортное место, у меня была замечательная преподавательница. Это действительно потрясающее время. Поступил я туда в достаточно осознанном возрасте — в девятом классе средней общеобразовательной школы. Что касается института, то там было сложно: я переехал в другой город и только начал себя осознавать, понимать, кто я, где я. Эти мысли сильно захватывали, я испытывал слишком много чувств, и если кратко сказать — не до учебы было. Мало старался. На третьем курсе я ушел оттуда.
Некоторое время пытался понять, что же делать, искал работу. Началась моя жизнь по съемным квартирам, отсюда и работа с малым форматом. Если продолжать говорить, то это обусловлено еще и удобством. Все-таки я ценю быстрое, почти моментальное исполнение работы. Идеальный вариант — начать и закончить за один сеанс, потому что картинки сродни дневниковым записям для меня. Признаться, мне раньше казалось, что большие работы отдают бахвальством. Мне же всегда хотелось занимать как можно меньше места. Для больших работ необходим профессионализм. Размашистые полотна — для «размашистых» художников. А я рисую маленькие картинки. Но мое мнение, безусловно, меняется.
— Недавно ты рассказывал, что планируешь начать работать с большим форматом. О чем будут эти работы?
— Сейчас как раз набираюсь смелости, чтобы приступить, благо, изоляция дает гору преимуществ. О чем работы? Как и все мое эгоцентричное творчество, — обо мне: переживаниях, проживаниях, расколах, самосозидании. Что касается тематики, последний месяц-полтора мне особенно интересно размышлять над слабостью. Что это для меня? Особенно в наше время высокой продуктивности и лучших версий себя. Мне хочется как-то понять слабость и принять ее.

Сергей Котов

Сергей Котов
— В твоих работах прослеживается натурная основа, ты делаешь наброски, а потом придаешь им несколько сказочное измерение. Откуда у тебя этот интерес?
— Думаю, это результат эскапизма. Он мне очень свойственен.
— В своих станковых работах ты как бы осциллируешь между графикой и живописью. Можешь рассказать, как все-таки правильно говорить о твоих работах?
— Я часто думал над этим. Свои работы я вообще зову картинками и даже названий им не даю, потому что все-таки считаю это неважным. Слово — такая сокрушительная сила: стоит что-либо обозвать, магия будто исчезает. Я не люблю знать, я люблю догадываться. Встретил какое-то время назад фразу, которая со мной очень срезонировала: «Хорошо и мудро с нашей стороны столько всего скрывать, замалчивать и утаивать, потому из вещей, которые мы не произносим вслух, под нами сплетается самый красивый узорчатый ковер, а по красивому ковру ходить уж наверное лучше, чем по голому-то полу». Из трех обезьян, закрывших лапами глаза, уши и рот, я бы предпочел молчаливую.
— Мне нравится наклон, с которым ты изображаешь своих персонажей. Это напоминает наклон почерка. Кажется, что твои персонажи — это буквы, из которых складывается рассказ. Как ты нашел этот язык?
— Мне очень понравилась твоя лиричная интерпретация про почерк. К сожалению, не вспомню имени, но я подглядел этот прием у кого-то из современных художников-иллюстраторов. Это так срезонировало во мне: композиция тут же нарушается, становится динамичной, появляется какая-то воздушность. Для меня это очень важный ход. Напомню, что я учился станковой живописи. Каноны школы предполагают идеально выверенную композицию, где комарик носа не подточит.
Нам говорили: если вам захочется в композиции передвинуть какой-либо объект или пятно на миллиметр, она сразу потеряет целостность. И, видимо, оно так отложилось, а я таким сокрушительным весом хочу уйти от этого, и наклон мне помог. Он действительно сворачивает голову и даже немного сознание. Чуть позже я просматривал полюбившиеся еще со школы известные полотна гениальных Борисова-Мусатова или Шагала, и все встало на свои места. Потрясающее «Рождение Венеры» Боттичелли — там богиня тоже наклонена, она куда-то летит, плывет, она не статична. Это нечто сновиденческое.
— А что касается остросоциальных проблем? Похоже, они тебя не очень волнуют.
— Если хочешь проблем в реальности — выйди во двор или включи телевизор. Зачем мне об этом говорить или рисовать? Меня это не интересует. В моем мироустройстве творчество является надстройкой над реальностью, своеобразным мыльным пузырем. Сквозь него все видно, но как бы через радужную мыльную пелену.
Что касается остросоциальных вопросов, я инфантильно аполитичен и эгоистичен. Я, конечно, прошу прощения, но это так. Если революции, какие-то подвижки и страдания возможны в творчестве, то пусть они будут в моей голове и будут касаться моей личности, а не того, что происходит вокруг. Я думал также о том, как меня могли бы воспринять читатели этого интервью: «Как же ты можешь? Такие страшные вещи происходят, а ты отгораживаешься и отнекиваешься?» Безусловно, все это обсуждается в моем близком кругу, но это не то, чему я посвящаю свое свободное время и тем более жизнь.


Иллюстрации для интернет-журнала «Инде»; 2020
— Расскажи, чем ты еще занимаешься помимо станковых работ?
— Есть творчество, а есть работа, я все-таки разделяю эти вещи. В работу я включаю иллюстрирование текстов, какие-то частные заказы. Безусловно, есть заказчики, которые задают вектор, но дают мне полную свободу. Это потрясающие люди. Помимо рисования, мне бы очень хотелось попробовать себя в других формах. Например, я раньше вышивал, расписывал одежду — мне всегда интересно кастомизировать вещи. Конечно, очень хочется попробовать себя в скульптуре, создать что-то материальное — попробовать выйти в пространство. Это не огромная цель, к которой я стремлюсь, а просто крошечная мысль. Если говорить о настоящем моменте изоляции, я выращиваю цветы. У меня их много. Много сплю, читаю книжки, смотрю кино. Все прозаично.
— Какова, по-твоему, сейчас роль художника?
— Это, наверное, единственный вопрос, на который мне особенно отвечать не хочется. Художник, как и человек любой профессии, сам себе назначает эту роль. Моя — в том, чтобы не сойти с ума. Шутка. Можно я промолчу, а за меня скажут мои картинки?
— Договорились. А какова тогда роль куратора?
— Опыт и участие в выставках у меня ничтожно мал. Так что отвечу, наверное, со стороны посетителя. Куратор — своеобразный дирижер: с его помощью экспозиция звучит, а неискушенный зритель не чувствует себя идиотом.
— Какие задачи ты ставишь перед собой во время работы? В этом процессе есть спонтанность?
— Даже по тому, как я нервничал во время подготовки интервью, ясно, что экспромт это не всегда мое. Но основная, главная моя задача — создать историю, срежиссировать чувство. Боже, как пошло звучит. Как уже понятно, я обитаю где-то в мире иллюзий, а материализация сюжетов имеет в том числе терапевтический эффект.
— Чем опыт иллюстрирования отличается от создания станкового изображения?
— Создание станкового изображения и иллюстрирование имеют совершенно разные подходы. В иллюстрированных текстах изображение дополняет слово — это симбиоз: ты опираешься на чью-то идею и говоришь то же, но другими инструментами. Идею нужно сформулировать корректно: вычленить художественные детали, уловить настроение и найти правильное визуальное решение.
При работе с самостоятельным произведением критиком и цензором в первую очередь являешься ты сам. И задачу, и смысл работы можно изменить в процессе. Когда ты занимаешься иллюстрацией, глаз, которые являются цензорами, становится море, а самый зоркий из них — глаз контекста. Коммерческая иллюстрация — непрекращающаяся погоня за актуальностью, поиск своего стиля и совершенствование себя в техническом ключе. Держи ухо востро. И это достаточно утомительно. Вчера я закончил иллюстрации для очередного материала «Инде», сейчас мы завершим разговор, и я буду делать снова. Замечательно, что у меня есть хоть какая-то работа.
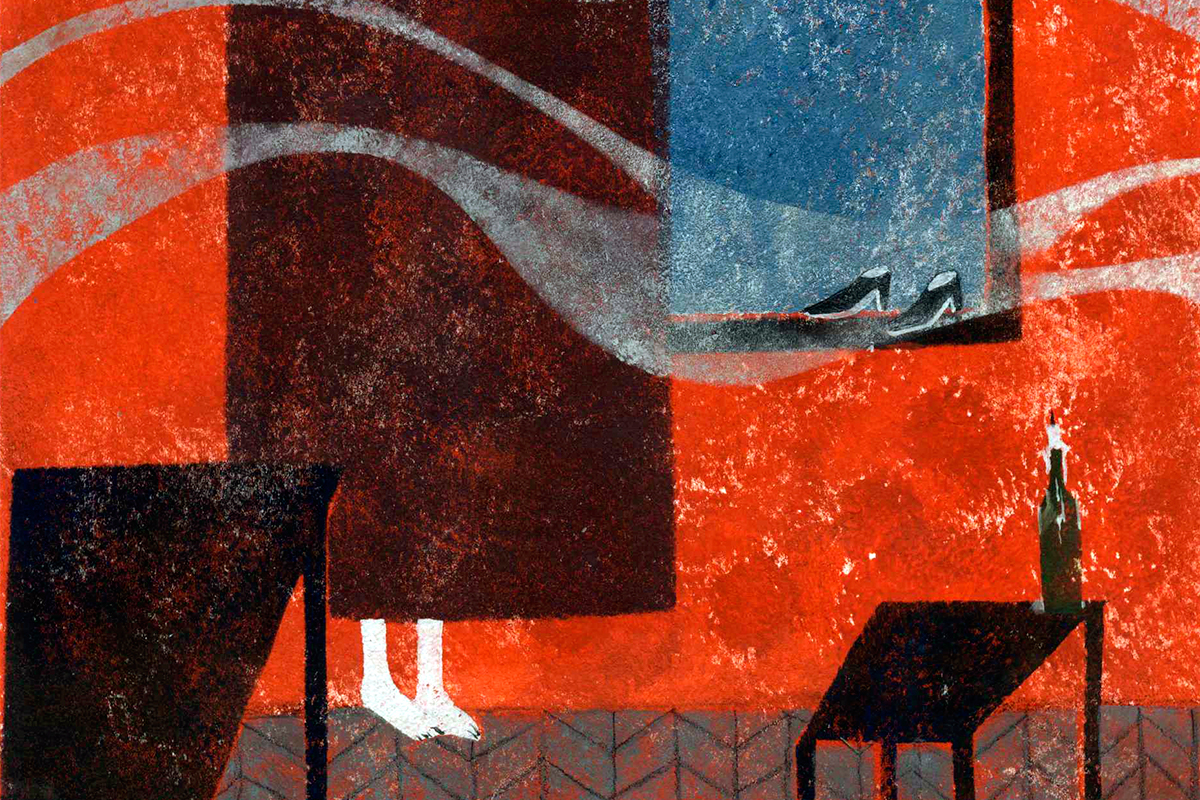
Сергей Котов

Сергей Котов
— Кто для тебя в искусстве является персонажем, к которому ты внутренне апеллируешь?
— Начну с обозначения, что личность творца для меня стоит далеко не на первом плане. Главное — творчество и оставленный след. Это к вопросу о спорных личностях: как относиться к творчеству, если автор, простите, мудак? Далеко ходить не нужно, тот же Ларс фон Триер — я обожаю его кино, но личность спорная.
Любимый мной уже около 10 лет — норвежец Эдвард Мунк. Помню свое ярчайшее впечатление от увиденной в книжке репродукции «Солнца» 1911 года. Это просто потрясающая вещь. Оригинал, кстати, размером приблизительно восемь на пять метров. Восемь метров, господи! Мне кажется, если я бы увидел это лично, взорвался бы — без шуток. Тональность Мунка такая тягуче-болезненная, он задает неудобные вопросы — мне это очень близко. Я регулярно к нему возвращаюсь. Он постоянно стоит где-то за моей спиной.
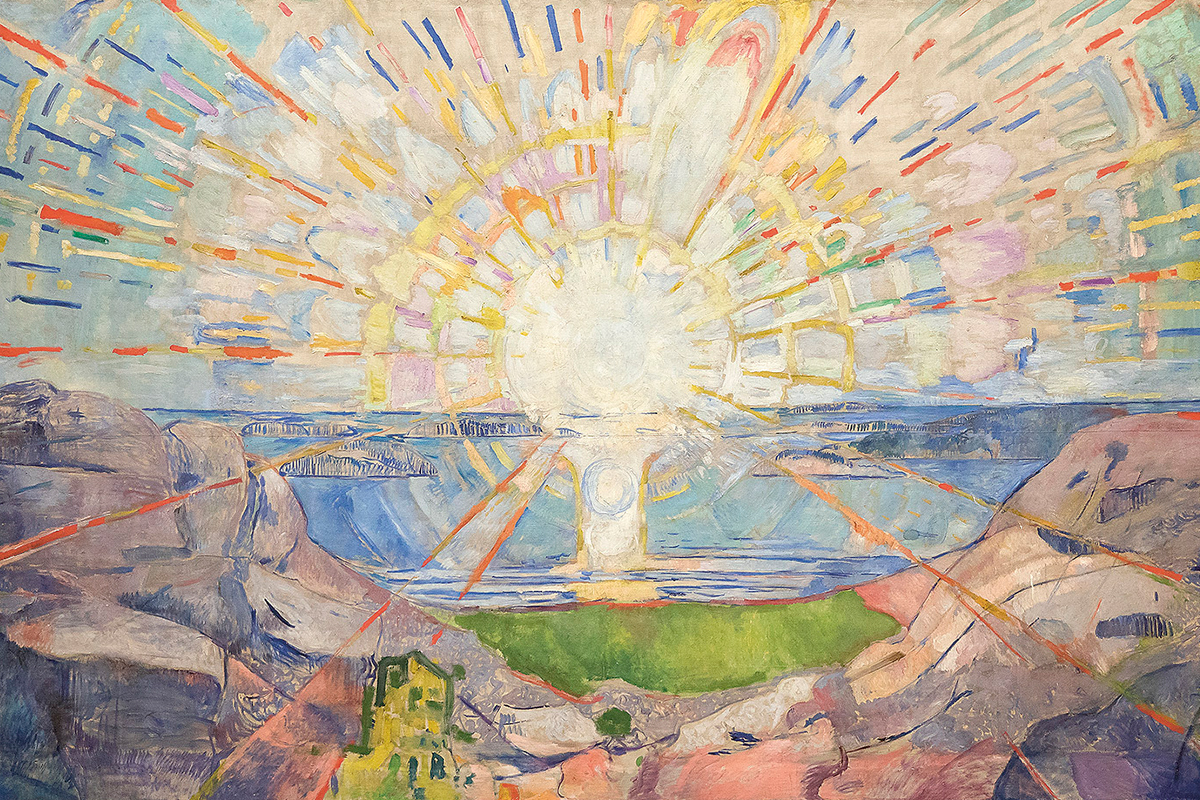
Эдвард Мунк. Солнце. 1916
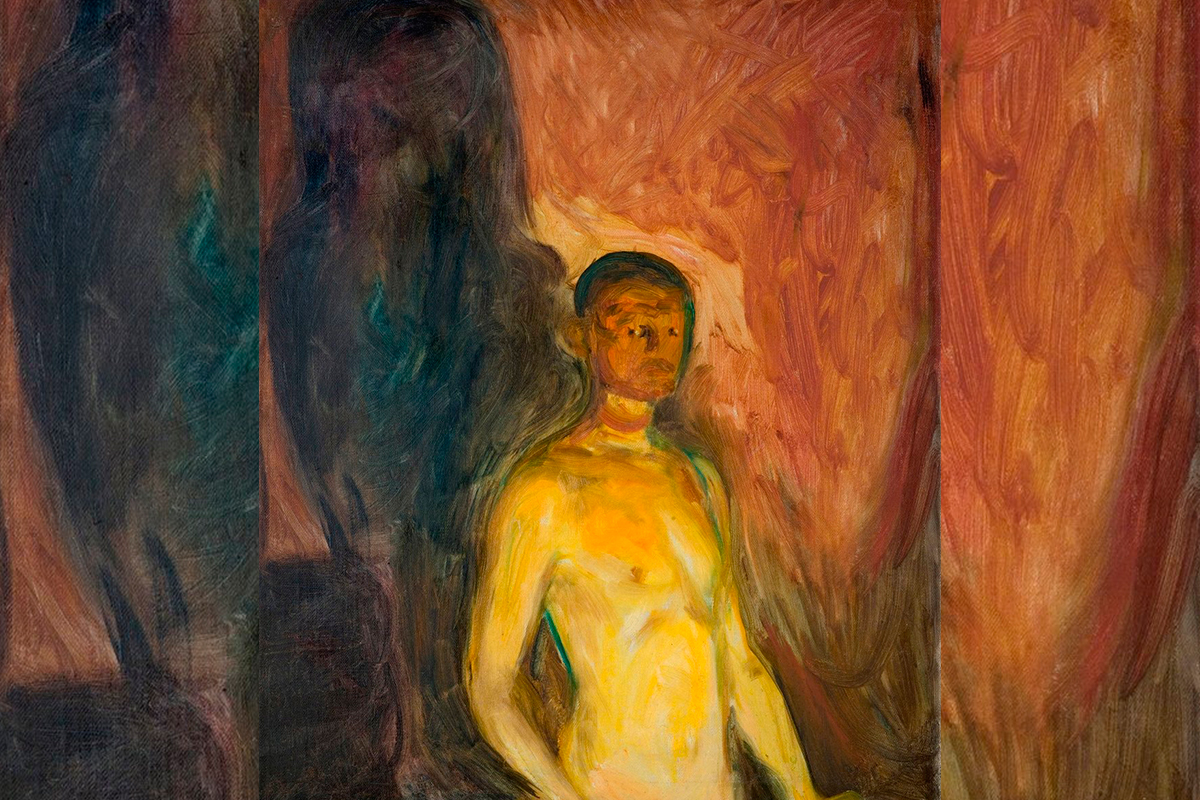
Эдвард Мунк. Автопортрет в аду. 1903
Отмечу художественное объединение «Голубая роза». Это, конечно, эстетство самое настоящее. Участники, как мы знаем, стремились к такой сновиденческой запредельности. Если бы я жил и занимался творчеством в начале XX века, ориентировался бы на них.
Из недавних открытий — американский модернист Мильтон Эвери. Меня поразил его колорит и композиция цвета. В работах прослеживаются некоторые отголоски Анри Матисса, но он более спокойный. Матисса я очень люблю. Кстати, тема растиражированного искусства мне тоже интересна. Все говорят: «Боже мой, Ван Гог уже на всех футболках». А я не вижу в этом ничего плохого. Я бы не купил себе футболку с Ван Гогом, но это же такой прекрасный показатель гениальности, когда ты доступен не только чванливому снобистскому кружку, но и всем вокруг. Матисс — абсолютный гений, обожаю. Какие ритмы, какие наброски… Какие наброски!
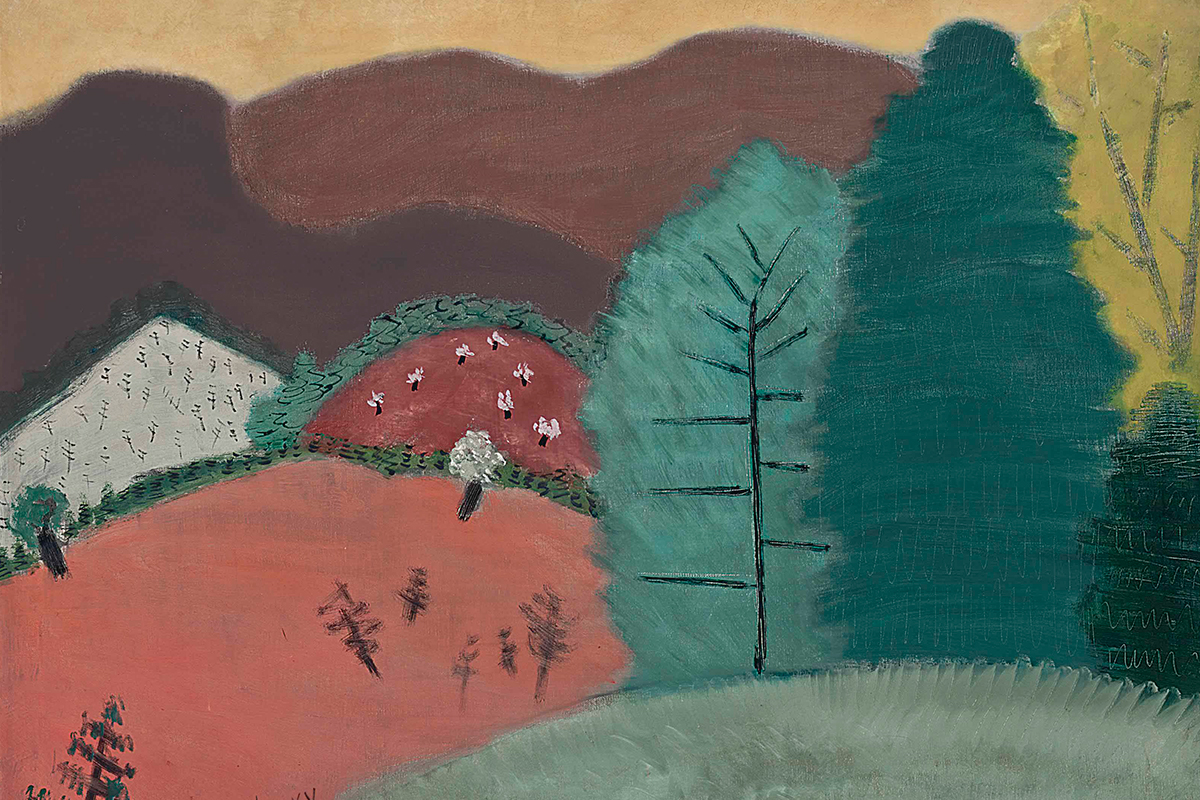
Мильтон Эвери. Ранняя весна. 1944
Есть еще один — Вилле Баумейстер, немецкий абстракционист. Недавно перечитывал книгу «Краткая история современной живописи» и наткнулся на него. Он гениален в своей способности беспредметной формой сказать и дать почувствовать очень многое. Тот же Жоан Миро, о нем я даже не могу сказать слова. Ты понимаешь вещь, и тебе от этого понимания так счастливо и гармонично, что даже не хочется говорить.
Недавно я пересмотрел телепередачу по каналу «Культура» Паолы Волковой «Мост над бездной», и там был выпуск про «Гернику» Пикассо. Господи, я почти плакал. Его язык, его стилизация, которую сейчас, кстати, часто используют в современной иллюстрации, особенно с набросков. Мне кажется, я начинаю подбираться к Пикассо.

Павел Кузнецов. Голубой фонтан. 1905
Что касается кино, меня совершенно разбил Кшиштоф Кесьлевский. Я очень люблю, когда произведение действительно сдирает с тебя кожу, и ты наращиваешь новую. Какое-то время ты пребываешь абсолютно голым, хрустальным. Его трилогия «Три цвета: синий», «Три цвета: белый», «Три цвета: красный» (1993-1994) для меня шедевральна. Его личность кинорежиссера, его киноязык во мне очень сильно отзываются. Мне даже было в какой-то момент страшно, что этот человек в кино смог показать то, как чувствую я. Он гений. В этом материале будет часто повторяться это слово, но это здорово — гениев много. «Двойная жизнь Вероники» Кесьлевского тоже потрясающий.
Музыка занимает важнейшее место в моей жизни. Вот уже несколько лет меня сопровождают неземные Cocteau Twins, отцы дрим-попа и шугейза. Они очень сильно на меня повлияли, и не выборочной композицией, а всей дискографией. Хорошо, что они были не такими плодовитыми, потому что иногда открываешь для себя исполнителя, думаешь — вау, какая классная песня, заходишь в дискографию, а там альбомов штук двадцать. Думаешь: «Боже мой. Где найти жизнь на это?»

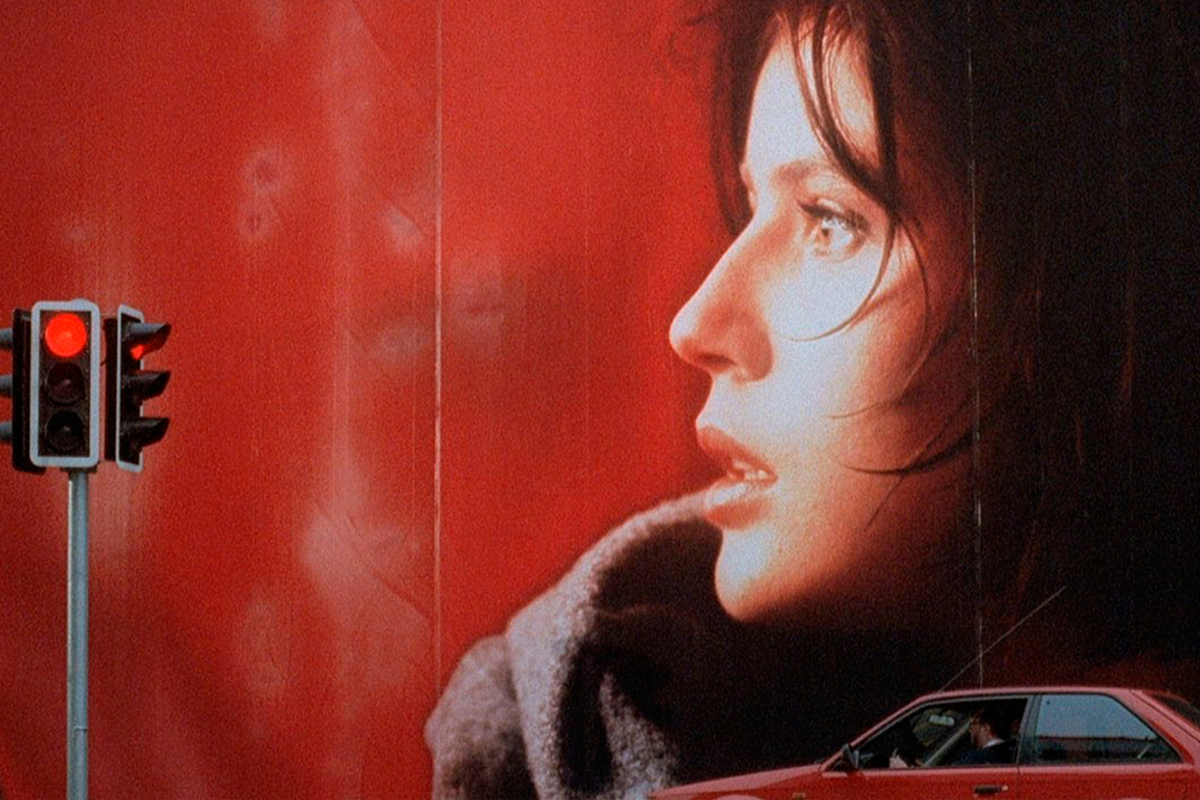
Кшиштоф Кесьлевский. Кадры из фильмов «Три цвета: синий» (1993), «Три цвета: красный» (1994)
Что еще примечательно по поводу Cocteau: они поют на несуществующем языке. Вокалистка Элизабет Фрейзер просто открывала какие-то толковые словари разных языков, смотрела, как они звучат. Рождается такая песня-произношение. Она создавала какие-то мозаики из не дружащих между собой слов, но зато звучащих. И магия в том, что ты понимаешь, о чем все это.
Еще одни мои не очень плодовитые любимчики — группа Slowdive. Они цепляют ностальгирующим звучанием. Их музыка похожа на знание, которое есть у тебя априори. Это ностальгия по тому, чего не было.
Хочу упомянуть пронзительных Portishead. По поводу Бет Гиббонс мне в голову пришла такая метафора: это голос, словно застрявший в пищеводе куском стекла. И дриада лесных чащ Julianna Barwick — она воздух, лес, что-то неосязаемое. Еще тоскливая и эскапистская Grouper.
Вся вышеперечисленная музыка мною обожаема, но она эгоистична: это тот случай, когда композитор все-таки навязывает, что чувствовать слушателю. У всех нас бывало это: тебе плохо, и ты включаешь грустную песню, чтобы совсем уничтожиться. Сейчас я открываю для себя страницу эмбиента. Когда уставал от манипулирующей музыки, то просто включал шумы природы, какое-нибудь двадцатичетырехчасовое видео леса (смеется, — прим. Enter). И эмбиент для меня во многом про это — когда устаешь от голоса человека.
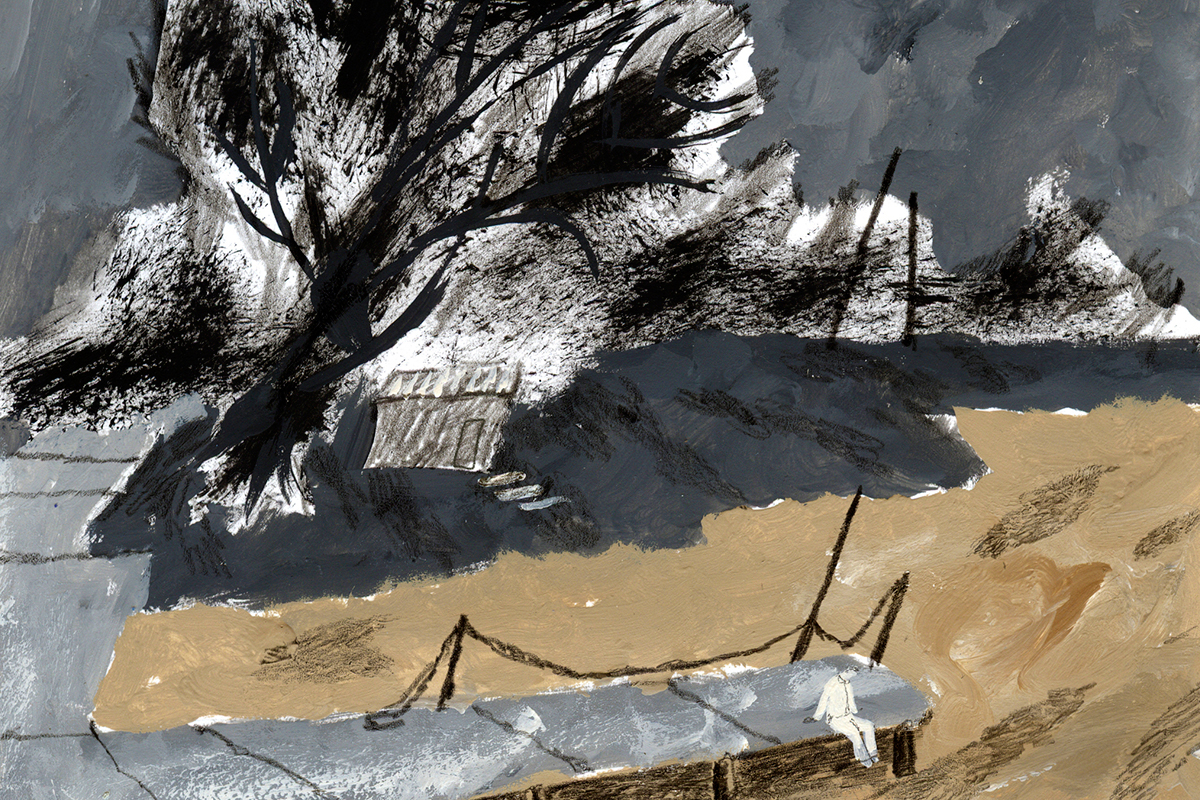
Сергей Котов
— С кем ты общаешься?
— У меня далеко не большой круг близких. Все так или иначе связаны с творчеством. Есть девушка-фотографка, с которой мы очень близко соприкасаемся по интересу к кино. Другая подруга работает с текстом. Третья — дизайнер. Творчество всегда как-то подвешено в воздухе в моем кругу. Но я считаю, что не всем нужно делиться — даже с самыми близкими. Оставь что-нибудь для себя. На эту тему у Абрамович и Улая есть потрясающий перформанс — тот, где они дышали друг другу в рот.
— Кто из казанских художников тебе нравится?
— Лия Сафина — ее я люблю. К абстрактному искусству я как выходец академической школы раньше относился достаточно холодно. Я его не понимал. Школа меня выломала, вогнала в какую-то определенную форму. Были, конечно, гениальные Малевич и Кандинский, с которых я начал все понимать. Я чувствую работы Лии. И мне близка Дина Ахметшина.
— Как ты думаешь, что в ближайшем будущем стоить ожидать от искусства?
— Я не берусь прогнозировать. Здесь нужна внимательность и логика, с которыми у меня проблема. К сожалению, я удален от актуальной повестки. Но давай помечтаем. Сейчас большинство людей самоизолированы, в том числе художники. Если посмотреть на посткарантинную свободу и посткарантинное искусство, то мне бы хотелось больше откровений. Ведь это то время, когда ты остаешься наедине с собой, и тебя ничего не спасет. Ты можешь запоем смотреть сериалы, готовить еду, убираться, мыть окна по пять раз и перебрать весь шкаф, но ты ведь все равно в себе и с собой. Творцы более чувствующие люди, и мне бы хотелось, чтобы было больше высказываний об этом.
Фото: предоставлены Сергеем Котовым; inde.io
До 5 октября в Центре современной культуры «Смена» работает выставка дуэта Франсуазы и Даниэля Картье «Тасма. Жди и смотри», в которой художники изучают возможности фотографии, экспериментируя со временем и светом как художественными средствами. Enter встретился с дуэтом Картье и поговорил о прошлом и настоящем «Тасмы», проекте длиной в двадцать лет, «неправильной» фотографии и минимализме.
F&D Cartier (Франсуаза и Даниэль Картье) — дуэт швейцарских художников, базирующихся в Биле/Бьене (кантон Берн). Авторы выставок в Швейцарии и зарубежом (Германия, Италия, Великобритания, Литва, США, Аргентина, Мексика и др.), номинанты на международную премию Deutsche Börse Photography Prize (2015).
Работы художников входят в коллекции Музея искусств в Портленде, Музея фотоискусства в Оденсе, Музея изобразительных искусств в Хьюстоне, Fotostiftung Schweiz в Винтертуре и так далее. Выставка в «Смене» организована при поддержке Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia, при участии Фонда поддержки современного искусства «Живой город» и Министерства культуры Республики Татарстан.

— Как вы узнали о заводе «Тасма»?
Франсуаза Картье: В прошлом году у нас была выставка в фотографическом музее «Дом Метенкова» в Екатеринбурге: мы работали с фотобумагой, которая находилась у них в архиве, и среди материала нашли коробку с рентгеновской пленкой производства «Тасмы».
Даниэль Картье: Ее выпускали в восьмидесятых годах. В коробке была сотня листов формата 13х18 см.
Франсуаза: Эта пленка при экспонировании давала насыщенный красный цвет (художники работают без фотоаппарата, используя фотобумагу и оставляя ее на свету. Она проходит ряд стадий засвечивания и постепенно меняет цвет. При этом Картье не используют лабораторную обработку бумаги — не проявляют и не фиксируют, — прим. Enter). Когда мы общались с директором Pro Helvetia, она посоветовала нам связаться со «Сменой», зная, что «Тасма» находится в Казани.
Даниэль: А сейчас мы находимся здесь, в резиденции по обмену между Россией и Швейцарией при поддержке Pro Helvetia. Во время исследований мы узнали, что в советское время фотобумагу производили всего в нескольких городах. Наверное, это были Ленинград, Москва, Переславль-Залесский и Казань. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, где была сделана эта фотобумага.
— В военные годы «Тасма» обеспечивала фронт и тыл кино- и аэрофотопленкой.
Даниэль: Да, мы читали об этом.
— А какие находки попались вам, пока вы искали материал во время резиденции в Казани?
Франсуаза: Мы работаем по большей части с фотобумагой, а не пленкой. Только в прошлом году годы мы открыли для себя рентгеновскую пленку. И Центр «Прометей» помог нам найти такие материалы. У нас оказалось какое-то количество образцов, которые можно было протестировать. Мы пришли в восторг, когда открыли для себя такой вид материала. А потом познакомились с Виктором Носовым (заместитель директора по маркетингу, — прим. Enter), который показал нам музей «Тасмы».
Даниэль: Было интересно. Это исторический музей, и мы довольно быстро поняли, что производство сменило свое направление, и теперь его значительный объем — изготовление упаковки. Помимо этого, «Тасма» еще производит рентгеновскую пленку, и я надеялся, что мы сможем взять оттуда несколько образцов, но не получилось. Мы видели комнату, в которой производят фотобумагу, но она не работала в тот момент, а фотографировать что-либо было запрещено. В итоге у них не оказалось рентгеновской пленки, но мы нашли там другие вещи.
— Когда мы рассматриваем инсталляцию «Жди и смотри», о чем стоит думать в первую очередь — о визуальной составляющей или контексте, истории каждого листа?
Франсуаза: И о том и о другом. Ведь кто-то не знает совсем ничего о фотографии, и ему будет достаточно наблюдать то, как меняются цвета. Фотографы, которые привыкли работать с аналоговой печатью, понимают процесс, происходящий с бумагой в нашей инсталляции. И действительно, за каждым листом скрывается целая история, и наша серия «Жди и смотри» также называется «Несделанные снимки», что обращает к мысли о том, что могло быть напечатано на этой бумаге. Так что здесь несколько уровней интерпретации.
Даниэль: В одной газете вышла рецензия на нашу выставку с очень хорошим заголовком: «Фотография может быть искусством или наукой. Или тем и другим?» Потому что если вы любопытны, то увидите, что бумага сделана в Ленинграде в 1925 году, и сразу зададитесь вопросом: а что произошло там в этом году? И отправитесь искать. Имея размер бумаги, мы можем найти ее историю — например, знаем, что в тридцатые годы существовали малоформатные фотоаппараты, а затем, с развитием технологий, появился средний и крупный формат. Теперь можно делать цифровую печать на всю стену.


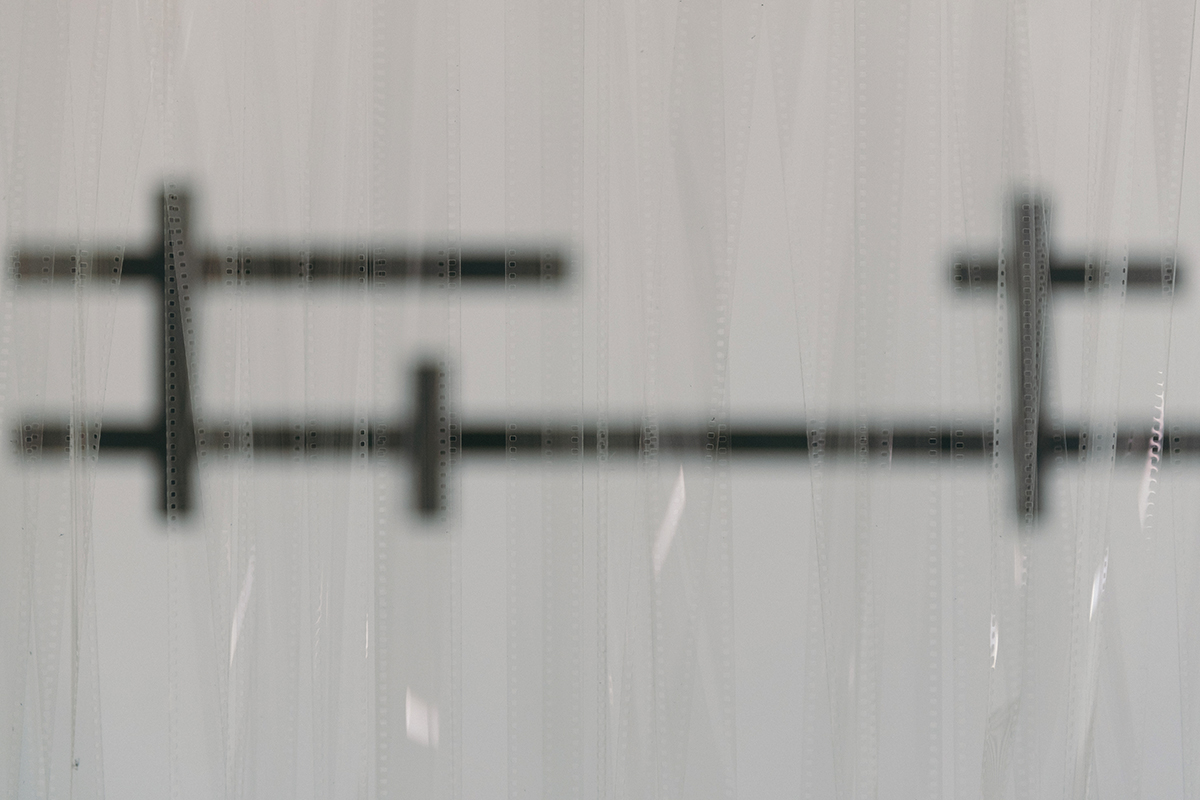
— «Жди и смотри» — проект, который вы продолжаете уже двадцать лет. Расскажите, какая работа остается «за кулисами» выставки в «Смене» и чего не увидят зрители, но что при этом важно знать?
Франсуаза: Мы начали с того, что попросили «Смену» поискать фотобумагу среди местных фотографов, а потом нашли часть материала на блошином рынке. Мы построили выставку, опираясь на то, что удалось отыскать, и учли особенности пространства. Перед этим у нас была неделя на то, чтобы протестировать образцы — узнать, как они будут себя вести.
Даниэль: Когда мы получили материал, первое, что сделали, — подписали все листы и протестировали. Мы описываем каждый образец — что это, как он себя ведет и так далее. Если вы спросите меня о любом из материалов на нашей выставке, я дам вам точную информацию. Это очень важная часть нашей работы. Дома у нас есть специальный каталог, в который мы заносим все материалы, найденные в рамках «Жди и смотри». Создание архива — это научная работа, которая может быть интересной для будущих поколений. Возвращаясь к предыдущему вопросу, скажу, что нашим проектам свойственен и художественный, и научный взгляд. Выставка в «Смене» — художественная часть нашей работы.
— Если говорить о проектах вроде Roses (2007) или Grand Tour Revisited (2014), можно ли считать, что ваши изображения по своей природе противоположны рентгену: рентгеновские лучи фиксируют внутренний каркас, а фотограмма — внешний?
Даниэль: Все именно так.
Франсуаза: Предположу, что одна из первых фотограмм, которые вы видели, это изображение грудной клетки. Она сделана из старого рентгеновского снимка из нашей коллекции. Мы хотели представить его в позитивном ключе, потому что на рентгене обычно видишь только негативный след, так что сделали из него фотограмму розового цвета. Такой цвет — результат «неправильного» обращения с фотографией, ведь мы не проявляем бумагу по стандартному процессу.
Даниэль: Розовый — сложный цвет, нежный и интимный. Нам понравилось рисковать, каждый раз в течение долгого времени работая с ним.
Франсуаза: В проекте Grand Tour Revisited мы также работали с камерой, но иногда использовали найденные объекты — например, негативы, которые увидели на блошином рынке. Гран-тур — путешествие, которое совершали в XVIII-XIX веках в образовательных целях, и одной из его главных точек была Италия. Мы в буквальном смысле наложили на них свой собственный опыт путешествия.
— Чтобы увидеть изменения на фотобумаге, зрителю нужно провести на выставке довольно много времени или вернуться туда как минимум еще раз.
Франсуаза: Да. Сейчас все листы цветные, но когда мы только достаем их из коробки, они белые или просто светлые. Мы начали строить экспозицию в понедельник, так что сегодня уже четвертый день.
Даниэль: Поэтому мы тестируем все образцы и описываем, архивируем их, иначе запутаемся. С научной точки зрения каждое освещение внутри пространства имеет свою температуру, которая измеряется в кельвинах. Если в месте экспонирования будет работать, например, вспышка, то бумага будет менять цвет немного иначе. Так что мы не можем дать однозначный результат. Физические условия создают свое собственное, индивидуальное изображение.
— Кажется, что в проекте «Жди и смотри» главное — это присутствие времени, его визуальное воплощение. Так ли это?
Даниэль: Что мы еще хотели показать в «Жди и смотри», это то, что ты ничего не можешь выявить, ведь изображение отсутствует, и есть только свет и бумага. Время — фундаментальное понятие для фотографии, так же, как свет и память. То, что мы сделали в проекте Roses, является ошибкой само по себе: бумага для черно-белой печати, которая становится розовой. Это скрытое изображение. Поэтому глядя на этот процесс, кажется, что видишь ауру.
Здесь, в «Смене», мы делаем то же самое: бумага для черно-белой печати, которая вдруг становится цветной: что-то пошло не так, верно? А если мы закрепим засвеченные листы бумаги в фиксаже, что мы получим? Все станет черным. В конечном счете нас интересует сама жизнь. Наша инсталляция похожа на растения, которые вянут, но никогда не умирают. Когда я учился, нам, фотографам, постоянно твердили: «Вы должны зафиксировать изображение, чтобы запечатленный момент длился миллионы лет». Мне это ужасно надоело. Забудьте об этом. Я хочу, чтобы эта бумага жила.
Франсуаза: Само слово «фотография» означает «светопись».
Даниэль: Так что наша работа имеет и связь с литературой.

Из проекта F&D Cartier ROSES, 1999

Из проекта F&D Cartier Grand Tour Revisited, 2014
— Как бы вы описали процесс зарождения искусства? Историки братья Янсоны решающим в этом процессе называли скачок воображения, но это довольно классическое понимание. А что можно сказать в вашем случае?
Даниэль: По большому счету, ты никогда не знаешь наверняка. Можно ждать годы и в итоге ничего не получить.
Франсуаза: Эксперименты решают.
Даниэль: Иногда думаешь: отличная идея! А через десять минут тебе начинает казаться, что это полная ерунда. Все познается в процессе. Работа, работа и еще раз работа.
— Сегодня многие художники обращаются к архивам для своих проектов, вы в том числе. Помимо этого, вы используете и найденные объекты. Когда вы впервые обратились к архивным материалам и как решили включить эту работу в свои проекты?
Франсуаза: Мы живем в мире, где каждый делает массу снимков, и мы буквально тонем в них. Кто-то может спросить: зачем в такой ситуации делать новые кадры? Некоторые художники используют найденные изображения, а нам нравится работать с архивами. Остается только выбрать материал, который ты хочешь использовать.
Даниэль: Еще таким образом можно обойтись без камеры, но при этом заниматься фотографией. Такой метод сработал в нашем проекте Grand Tour Revisited, когда мы нашли слайды на блошином рынке в Венеции. У нас есть ощущение, что мы спасаем вещи от разрушения, делая их частью чего-то, что может иметь значение сейчас. Это не ностальгическое чувство — мы спасаем объекты, потому что они — часть нашей с вами культуры.
— Мне показалось, что есть нечто общее между вашим подходом и одной серией белых чистых полотен Раушенберга, которые выступали у него площадкой для пыли, света и тени. Какие художники с вами на одной волне?
Франсуаза: Мы не вдохновляемся другими художниками, но иногда находим у кого-то, кого мы не знаем, похожие идеи.
Даниэль: Нам нравится минимализм, экспериментальная фотография. Можем поговорить о Малевиче, Родченко, Ман Рэе и конструктивистах.
Франсуаза: Нам близко упрощение формы.
Даниэль: Не так давно мы принимали участие в трехлетнем исследовании Венского Университета под названием «Перезагрузка устройства». В проекте задействовали тридцать художников — каждое исследование было разным, но большинство работало без камеры или со сломанным устройством. Так что такое направление в фотографии существует.
— Ваши инсталляции иногда называют минималистскими, но есть ощущение, что, в отличие от минималистов, для вас эстетический момент важен. Так ли это?
Франсуаза: Если мы что-то делаем, то нам необходимо определиться с формой. Абсолютный минимализм — это ничто. Чтобы выразить ничто, нам все еще нужна самая минималистская форма — квадрат или прямоугольник.
Даниэль: Для нас это перформанс: мы словно живописцы, которые начинают рисовать еще до открытия выставки. И это похоже на танец, когда ты выходишь на сцену и никогда не знаешь до конца, как все будет происходить. Поэтому для нас важно сначала создать структуру.
Франсуаза: Это диалог между материалом и нашими идеями. Какие-то виды бумаги есть у нас в достаточном количестве, а какие-то всего в дюжине экземпляров, и нам приходится с этим считаться.
Даниэль: Но это правда, мы придаем значение эстетическому виду наших проектов.
— Можно ли по отношению к проекту «Жди и смотри» применять понятие punctum (по Барту — личная, субъективная деталь, которая устанавливает прямую связь между объектом на фотографии и зрителем, — прим. Enter)?
Даниэль: Книга Барта Camera lucida — одна из наших любимых по теории фотографии. «Жди и смотри» — это люминограммы, и, по сути, мы с вами находимся внутри камеры, а окна — это объективы. Мы записываем свет и атмосферу на бумагу.
Франсуаза: Но это не то же самое, что снимок, сделанный на камеру за одно мгновенье.
Даниэль: Мы не знаем, чувствуют ли это зрители. Наша идея — задавать вопросы.
— Известно, что Франсуаза имеет карьеру живописца и скульптора. Помогает ли это в работе, отражается ли, когда вы работаете в дуэте?
Даниэль: Франсуаза очень сильна в работе с цветом.
Франсуаза: Я пишу простые монохромные вещи и использую найденные объекты. Так что думаю, игра с цветом и формами пришла из моего сольного творчества.

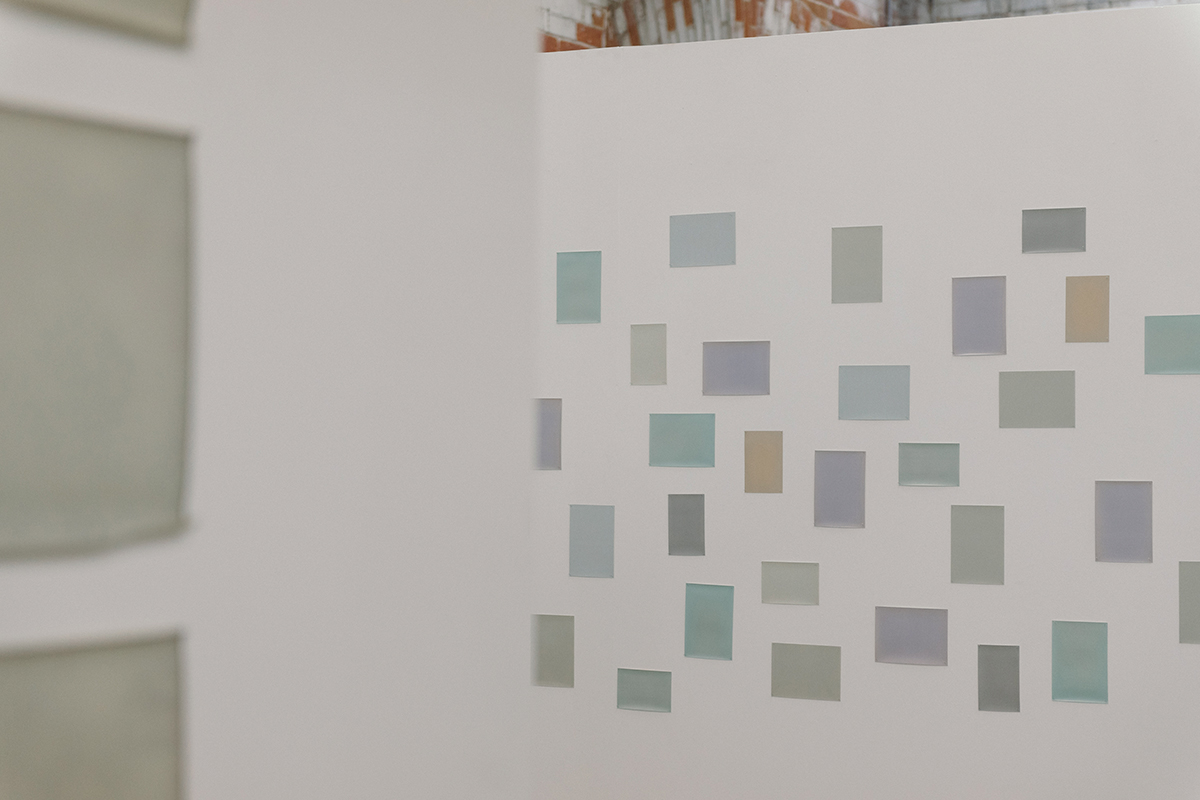

— Каковы ваши ближайшие планы, если не секрет?
Франсуаза: На сегодняшний день у нас собралось около восьмисот видов фотобумаги, и мы работаем над каталогом, в котором соберем все воедино.
Даниэль: Мы привлекли историка искусства, который специализируется на фотобумаге, и еще одного специалиста, работающего с архивами. Они отвечают за научную часть каталога, а мы — за художественную. Получится книга на стыке науки и искусства. Вы, наверное, хорошо представляете, как сложен процесс производства книги, особенно если ее тема достаточно концептуальна и далека от мейнстрима. Пока неясно, каким будет тираж — возможно, мы напечатаем пару сотен в качестве арт-проекта. Мы занимаемся этим уже двадцать лет, и нам все еще нравится. Каждое новое исследование материалов на новом месте — словно белый лист. Как «Белое» Малевича. И здесь нужно быстро адаптироваться, потому что, как правило, в каждом новом месте нам дается не так много времени. В Казани, например, всего три дня. Так что ваш предыдущий вопрос был правильным: без большого опыта мы бы делали много ошибок.
Фотографии: Даниил Шведов, F&D Cartier
Роберт Пфаллер — профессор философии и автор книги «Ради чего стоит жить. Начала материалистической философии», презентация которой прошла в Казани в рамках Летнего книжного фестиваля «Смены». Enter поговорил с Пфаллером о новой поп-культуре, природе зависти, материализме и удовольствиях.
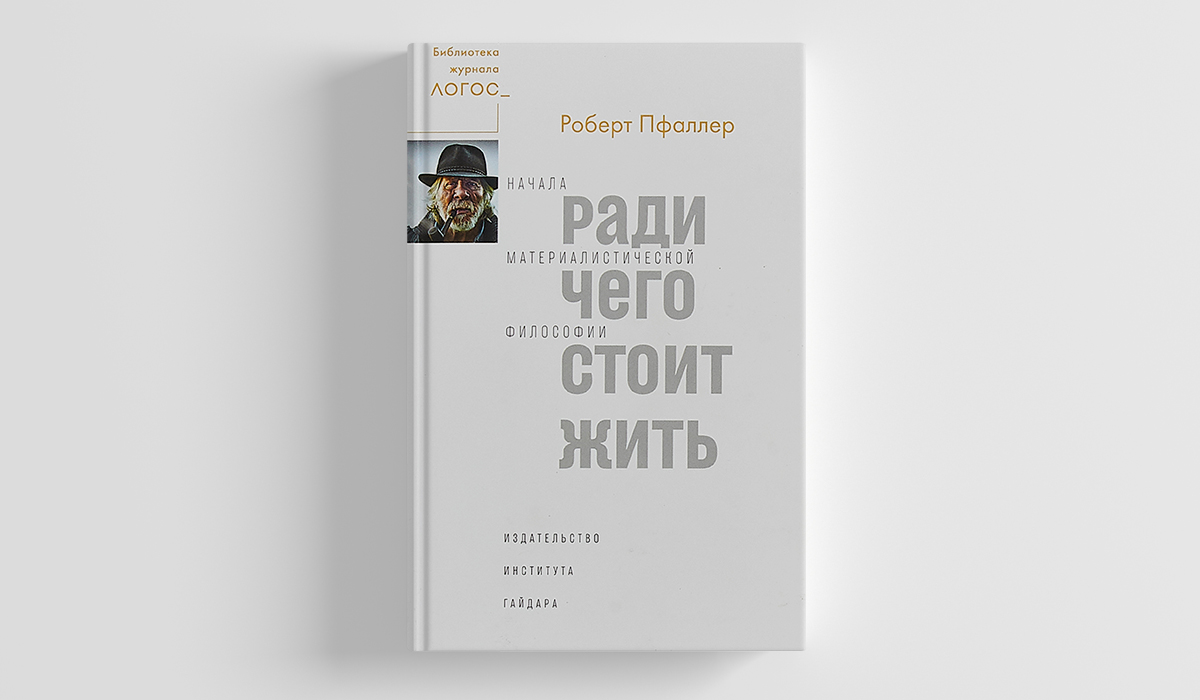
Роберт Пфаллер — профессор философии и теории культуры в Университете искусств и промышленного дизайна в Линце, Австрия; один из основателей психоаналитической исследовательской группы «stuzzicadenti».
— В самом начале книги «Ради чего стоить жить. Начала материалистической философии» вы обращаете внимание на явление, которое называете сменой «освещения». В чем причина этой смены?
— При помощи этой концепции я попытался описать внезапную перемену, которая возникла в последние двадцать лет в западных капиталистических обществах. Она касается таких обыденных вещей, как употребление спиртного и мяса, курение, политкорректность, черный юмор, флирт, ношение туфель на высоких каблуках, вождение машины, сексуальность и так далее. Долгое время эти вещи считались доставляющими удовольствие (и по-прежнему считаются таковыми в остальном мире), и вдруг начиная с 90-х западное общество стало относиться к ним как к некоему злу — как к угрозе здоровью, экологии, гендерному равенству, хорошим манерам и так далее.
Впрочем, эта перемена довольно своеобразная: она не вызвана появлением новой информации. Курение внезапно было объявлено недопустимым не из-за осознания того, что оно не является невинным удовольствием, а представляет угрозу для здоровья. Привлекательность чего бы то ни было всегда возникает именно за счет своей опасности, и потому такие вещи предназначены только для взрослых — сюда относятся секс, вождение автомобиля и так далее. Так что перемена мнения вызвана не узнаванием новых фактов, а только изменением в восприятии старых. Мы словно рассматриваем наши наслаждения под другим освещением.
Я попытался показать, что причина этого явления в том, что неолиберализм и сопутствующая ему идеология — постмодернизм — приватизировали публичное пространство. Из-за этого люди утратили ощущение солидарности, которое требуется для практик удовольствия, амбивалентных по своей природе. В то же время празднество в группе — например, распитие шампанского — может превратиться во что-то возвышенное. Празднество подразумевает, что группа признает собственный трансформативный потенциал в связи с этими амбивалентными практиками, и потому мы не отмечаем день рождения взрослого человека минеральной водой.
— Какую роль играет бодипозитив в эпоху чопорного и враждебного отношения к удовольствиям и к телу в частности?
— Мое утверждение заключается в том, что способность ценить удовольствия зависит от ситуации в обществе. Если оно в состоянии поддержать индивидов, для которых принципиально восхвалять эти противоречивые практики, то индивиды начинают высоко ценить их — в противоположном случае подобные практики чаще всего внушают отвращение. Например, многие люди сами по себе не любят пить спиртное, но когда нужно поздравить коллегу с днем рождения, даже самые упертые любители чая способны насладиться глотком шампанского. Императив празднества позволяет им преодолеть собственные ограничения.
«Боги, которых мы прекратили славить, превратились в наших демонов», — писал немецкий поэт Генрих Гейне в своей новелле «Боги в изгнании». Именно это произошло с нашими удовольствиями: поскольку общество больше не поддерживает предписание празднества, удовольствия превращаются в наших демонов.
Это явление, которое должно исправляться на уровне общества. В одиночку это сделать невозможно. Бодипозитив — проявление подобного социального состояния, но не повод считать, что наше отношение к удовольствиям улучшилось.
— Вы пишете, что распространение порнографии определяет эротическую нищету постмодернистской культуры. Что под этим подразумевается?
— Сейчас имеет значение не распространение порно самого по себе, а ужасающего вида порнографической попсы. Звезды типа Бритни и Рианны эксплуатируют порнографический имидж. При этом трансгрессивные эротические и сексуальные практики не происходят в большом кино с какими-нибудь Марлоном Брандо или Марией Шнайдер, а вместо этого они случаются с обычными людьми — с условным Васей Пупкиным или Мариванной из любого реалити-шоу.
Такое изменение медиальности и уровень культуры показывают глубокие изменения нашего отношения к этим практикам. Классическое кино показывало трансгрессивную сексуальность как некий идеал, на который обычные люди могли ориентироваться или мечтать о нем. А сегодняшняя поп-культура показывает сексуально активного Другого как амбивалентную фигуру, одновременно очаровательную и отвратительную. Мы хотим видеть такой секс, но нас научили просто довольствоваться мыслью о том, что это Другой предается грязным утехам. Не остается ничего, к чему можно стремиться или мечтать. Мы просто радуемся тому, что это не мы.
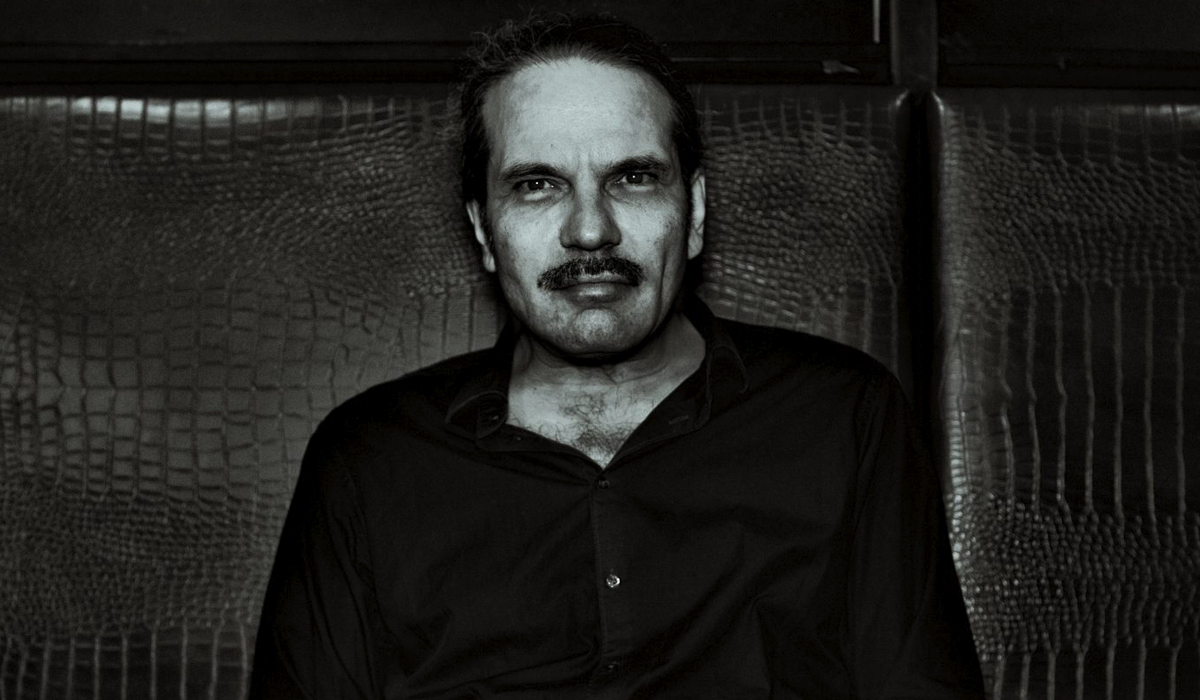
— Вы используете комедию как пример для прояснения программы материалистической философии. Не могли бы вы вкратце рассказать об этом?
— Несмотря на то, что на постмодернизм вешается ярлык иронической культуры, он породил довольно мало действительно хороших комедий, в то время как более строгий модернизм знает их очень много. Это можно объяснить, как я полагаю, материализмом самой комедии: как и философский материализм, комедия настаивает на том, что видимый мир — единственный, и если существует что-то, что можно назвать правдой, то она должна быть постигнута в этом мире. Метафизика, напротив, постоянно стремится разделить сущности: «смешно, но выдумка», «печально, но факт», «свободный, но несчастный», «счастливый, но несвободный» и так далее.
Операция по разделению мира на две противоположные части — базовая операция метафизики, происходящая из идеи о том, что мир несовершенен, и все по-настоящему прекрасное должно потерпеть в этом мире крах. Следовательно, трагедия прославляет неудачу, будто бы неудача сама по себе могла служить доказательством возвышенного. Комедия, напротив, прославляет успех: если что-то величественное возможно, оно должно иметь место здесь и сейчас. Поэтому в комедии самые невероятные замыслы приводят к успеху.
— Сейчас многие блогеры говорят о том, что для них зависть стала мотивом к действию. Кажется, ваш тезис о зависти противоположен такому отношению: вы пишете, что зависть не может быть движущей силой политического действия. Почему?
— Вы не совсем поняли. Думаю, зависть блокирует возможность серьезных политических действий. Я называю ее идеалистическим пороком. Когда вы завидуете, то не хотите для себя того, что есть у Другого. Чтобы стать политически активным, вы должны хотеть чего-то для себя. «Бояться плохой жизни больше, чем смерти», — как это красиво выразил Брехт. Опять же, постмодернистской идеологии свойственно, что Другому доступны некие невообразимые и бесконечные удовольствия, которые недоступны нам. Первый материалистский шаг — понять, что не существует никаких бесконечных удовольствий. Второй состоит в том, чтобы осознать, что их можно разделить в коллективном сплочении. Счастье Другого — не помеха для моего собственного, а предпосылка к этому. Поэтому, как говорил французский философ Ален (настоящее имя — Эмиль Шартье, — прим. Enter), счастье — это социальная обязанность.
— Можно ли говорить о том, что зависть и желание делать комплименты имеют схожую природу?
— Абсолютно нет. Зависть — постмодернистское явление. Желание делать комплименты как проявление благородства противоположна зависти и имеет отношение к модерности.
— В одной из глав вы пишете о том, что взрослым можно стать только тогда, когда человек способен раздвоить взрослость и разум. Что вы имеете в виду под этим?
— Вспомните, как себя ведут маленькие дети, когда открывают для себя взрослую рациональную жизнь. Они начинают вести себя как взрослые, но делают это смешно: они постоянно пытаются пребывать в этой роли, но не понимают, почему сами взрослые делают такие глупые вещи, как подшучивание или влюбленность. Эти дети — взрослые, но в инфантильной форме. Чтобы быть взрослым, нужно быть им по-взрослому: раздвоить взрослость и разум, то есть позволить время от времени себе делать маленькие безумства и глупости.
— Вы пишете, что сфера искусства переполнена механизмами торможения для деятельности художника: институтом кураторства, академиями художеств, рынком и так далее. Существует ли реально в этой системе искусство прямого действия как альтернатива?
— Увы, нет. Но я думаю, люди все больше устают от того, что проталкивают кураторы, и жаждут искусства, которое не вписывается в установленные представления о социально и морально приемлемом.
— Есть ли что-то общее между двумя тезисами о любви из вашей книги: «изначально любят того, кто кормит или защищает» и лакановское «любить — значит дарить того, чего не имеешь (тому, кто этого не хочет)»?
— Нет. Если говорить на языке психоанализа, они принадлежат к двум разным стадиям сексуального развития. Фрейд отмечает, что на раннем этапе сексуальное желание слабое и открывает свой путь к объекту только через инстинкт самосохранения. Поэтому первой любовью становится тот, кто вскармливает ребенка. Только позже сексуальное желание достигает самостоятельности и становится возможным нарциссический выбор объекта, когда человек выбирает того, кем хочет стать или кем был (милым ребенком) и так далее. Только в таких условиях возникает влечение, но не ради того, чтобы получить еду и другие блага, а потому что он желаем. И когда Другой отвечает на это желание, он или она отдает то, чего у него или ее нет. Они отдают свое желание — то есть стремление к чему-то, а не владение чем-то.
— Есть ощущение, что материалистический подход позволяет более оптимистично смотреть на наше будущее, чем идеалистический.
— Я думаю, формула Антонио Грамши «Нам нужен пессимизм интеллекта, оптимизм воли» — неплохое правило для материалистической этики. С одной стороны, материалистическая философия это упражнение видеть вещи «разочаровавшимся» взглядом. С другой, материализм базируется на принципе, что у нас есть только один мир. Это означает, что счастье, истина, равенство и так далее возможны в этом мире, и что нет никакого трансцендентального барьера, который делает их невозможными или отделяет одно от другого («смешно, но неправда», «слишком красив, чтобы быть настоящим»).
— Что для вас как для философа является критерием правильности?
— Эти принципы довольно четко определены в любой деятельности, которая имеет дело со знанием: например, эмпирические методы, правила логического умозаключения, правила журналистского расследования и так далее. Проблема возникает только тогда, когда мы говорим о чем-то как об абсолютно истинном. Здесь мы сразу сбиваемся с пути. Это происходит не из-за размера проблемы, с которой мы сталкиваемся, а скорее от скудности наших абстрактных подходов. Опять же, материализм учит, что истина доступна, и что сотни истин производятся каждый день в разных областях знания. Спрашивать о том, найдем ли мы «настоящую истину», настолько же глупо, как если бы мы спросили, была ли у нас «реальная стиральная машина», «реальный компьютер» или «реальный автомобиль».
— В чем, на ваш взгляд, причины всех этих проблемных отношений к наслаждениям?
— В недостатке социальной сплоченности и солидарности, которая порождена неолиберальной экономикой и поддерживающей ее постмодернистской идеологией.
Фото: oetzlinger.at, ozon.ru
В июле на острове Свияжск прошел III Фестиваль дебютного документального кино «Рудник». Одним из членов жюри фестиваля стал режиссер-документалист Мацей Дрыгас. Enter встретился с ним, чтобы поговорить об ответственности перед своими героями, сходстве работы документалиста и археолога, а также Лодзинской киношколе.

Мацей Дрыгас (1956, Лодзь) — режиссер, сценарист, автор фильмов «Чужие письма» (2011), «Один день в ПНР» (2005), «Абу Хараз» (2012), победитель международных фестивалей и профессор Лодзинской киношколы. Документальные фильмы и радиопостановки Дрыгаса транслировались по теле- и радиоканалам Европы, Канады, Бразилии и Австралии.
— Понятия «документальное кино» и «реальность» зачастую идут рука об руку. Используете ли вы по отношению к своей работе слово «реальность» и как можно очертить его рамки?
— Здесь можно использовать более простое слово — «правда». Я создаю на основе какой-то, как вы говорите, реальности свой авторский фильм — можно сказать, беру зрителя с собой в экскурсию. Сегодня я показывал вам только те работы, которые делал из архивных материалов, но есть и такие, где я просто наблюдаю за какой-то историей. В моем понимании есть реальная правда события или ситуации, и есть правда документального кинорежиссера, который пропускает этот мир через свою душу. В таком ракурсе можно рассмотреть два жанра: репортаж, являющийся записью события один-к-одному, и документальный фильм, когда реальности при помощи авторских жестов, конструкций и наррации придается более высокая значимость.
— Вы рассказывали, что ваш подход к созданию фильма напоминает, скорее, работу археолога, чем режиссера. Вы узнаете огромное количество историй и годами изучаете темы, которым посвящаете кино. Как структурируете свою работу?
— Если мы говорим про фильмы, которые созданы из большого количества архивных материалов, то, действительно, я чувствую себя больше археологом, чем киношником. Первое, что нужно сделать, — провести тотальное исследование. Каждый раз я пытаюсь находить материал в неизведанных местах, потому что это открывает новые пути. Во время работы над «Одним днем в ПНР» таким источником для меня стали частные архивные материалы, снятые на пленку Super 8, а в «Чужих письмах» это архивы киношколы. Вдруг оказалось, что есть большое количество информации о ПНР в документальных этюдах студентов, среди которых были очень тонкие художники. В то время в школе было меньше цензуры, и я нашел много сильного материала.
То есть, сначала поиск — с одной стороны, киноматериалов, с другой — документов, если они являются частью либретто. Знаете, я делал «Один день в ПНР» около пяти лет, из которых примерно четыре года вел поиски: приходил в архив и просматривал тысячи папок. Меня интересовала только одна дата — 27 сентября 1962 года. Когда она попадалась, я останавливался, переписывал, сканировал и так далее — мне нужно было найти огромное количество свидетельств, связанных с этим днем. После того, как собрана большая масса изобразительных и текстовых материалов, можно приступать к работе над структурой.
В «Одном дне в ПНР» довольно много общих планов толпы, и документы хорошо монтировались с этими сценами. Но в «Чужих письмах» вдруг оказалось, что сами письма сильнее, чем картинка: они буквально выплевывали изображение. Тогда я начал методом перебора искать героев для каждого эпизода. Например, тот кусочек в деревне, который вы видели, создан из фрагментов десяти-пятнадцати фильмов, но создается такое впечатление, что женщина на экране — автор письма, что читается за кадром. Иногда там случаются смешные моменты, как тот, где она рассказывает, что ее мама упала…
—… и тут мы видим, как курица хромает на ту же ногу.
— Вы это заметили. Нельзя сравнивать такую работу со съемкой игрового фильма, но в ней точно присутствует большой творческий элемент. Можно сказать, что я выстраиваю целый мир из разрозненных материалов. Потом, когда уже есть определенное количество эпизодов, мы начинаем склеивать их и смотрим, как они взаимодействуют. На этом этапе включается настоящий инженерный анализ. Дальше я рассматриваю структуру фильма через три драматургические линии. Первая — линия сторителлинга. Я смотрю, как на этом уровне срастается информация: как одно письмо сталкивается с другим, что мы знаем и что еще должны узнать из сюжета, и как благодаря этому выстраивается драматургия. Вторая линия — смысловая, через которую я задаю себе вопросы: к чему ведет тот или иной эпизод? О чем он и что означает?
Третья — наверное, самая важная для меня линия — эмоциональная. Я измеряю «температуру» кадров и эпизодов и определяю, где холодно, где тепло, чтобы достроить драматургическую линию, в которую я все-таки начал втягивать зрителя. Это не значит, что она постоянно должна лететь вверх — она может выглядеть как синусоида, когда какой-то более «холодный» материал опускает ее вниз и делает эмоциональный всплеск сильнее. Здесь снова включается инженерный анализ. В своей жизни я работал с лучшими монтажерами. Мы сначала изучали материал, смотрели и делились тем, что в нем видим; потом выстраивали очередные эпизоды и рассматривали, как они складываются друг с другом. Такой длительный, и, я бы сказал, непростой процесс.
Для того, чтобы эмоциональная линия имела свою силу, очень важно создать подходящий звуковой ряд. Я сотрудничаю с нашим крупнейшим композиторoм, который пишет в основном симфоническую музыку, — Павлом Шиманским. Помимо музыки есть еще фоновые и синхронные шумы. У меня огромная фонотека — я коллекционирую звуковые материалы со времен ПНР.
— Насколько, по-вашему, должно ощущаться присутствие режиссера в кино, должен ли он участвовать в той жизни, которую показывает зрителю?
— Первый вопрос касается этической стороны, и он очень важный, потому что мы живем в мире, где все выставляется на продажу. Давно забыты этические границы, а информация является товаром и часто публикуется в медиа довольно бессмысленным образом. При этом чем она страшнее, тем лучше для медиа. Я, наверное, немного из мира динозавров, но считаю, что мы в ответе за своих героев. Студентов киношколы я учу тому же. В игровом кино намного проще: ты не отвечаешь за жизнь персонажа после окончания съемок. А в документальном ты должен сделать хороший фильм и в то же время не сломать жизнь человеку.
Кажется, что это очень простая вещь — не обидеть человека. Но стоит подумать о том, что может произойти, скажем, через двадцать лет, когда маленький ребенок из фильма станет взрослым. Об этом особенно важно помнить, если касаешься трудных тем. Как не пересечь этическую границу? Знаете, Кшиштоф Кесьлевский ушел из документального кино, потому что уже не выдерживал. Очень часто я советую своим студентам: это хорошая история, но лучше взять ее как основу игрового этюда, потому что иначе можно сделать своему герою больно. Это все очень непросто.
Сейчас популярны фильмы о людях с инвалидностью. Если кто-то из моих студентов приходит с такой идеей, я у него спрашиваю: если бы у этого человека были ноги и руки, ты бы пошел к нему? Если да, то почему? Если ответ «да» — то пожалуйста, снимай. Но если ты идешь только потому, что он без ног, этого маловато для фильма. Я предпочитаю бояться за героев.
Вторая часть вопроса — насколько можно вмешиваться в мир, о котором ты делаешь кино. Все, что мы снимаем, есть вторжение, как бы мы на это ни смотрели. Ты вмешиваешься в жизнь и пропускаешь эту действительность через свое видение, даже просто ставя камеру и выбирая план. Есть один деликатный момент: когда ты становишься наблюдателем очень трудной ситуации, встает вопрос — нужно ли выключить камеру и помочь человеку?
Я недавно смотрел материал, где снималась женщина после какого-то страшного паралича. Ее муж тоже с инвалидностью, но не такой степени, как у жены. У них был ребенок лет десяти, и он больше ходил за отцом, чем за матерью, потому что ему было немного стыдно за нее. В какой-то момент она попросила миску, чтобы поесть, но сын был погружен в компьютерные игры и не захотел помогать. Следующие пять минут обернулись ужасным скандалом. У меня было впечатление, будто только что посмотрел сквозь замочную скважину на чью-то интимную жизнь. Я лично выключил бы эту камеру и дал женщине миску. Разные документальные школы учат по-разному. Я из той, где боятся и переживают за других людей, ведь ты влезаешь в чью-то жизнь, чтобы поласкать свое эго, сделать мощный фильм, поездить по фестивалям, но оставляешь пейзаж после битвы. Пытаюсь обращать внимание на это.
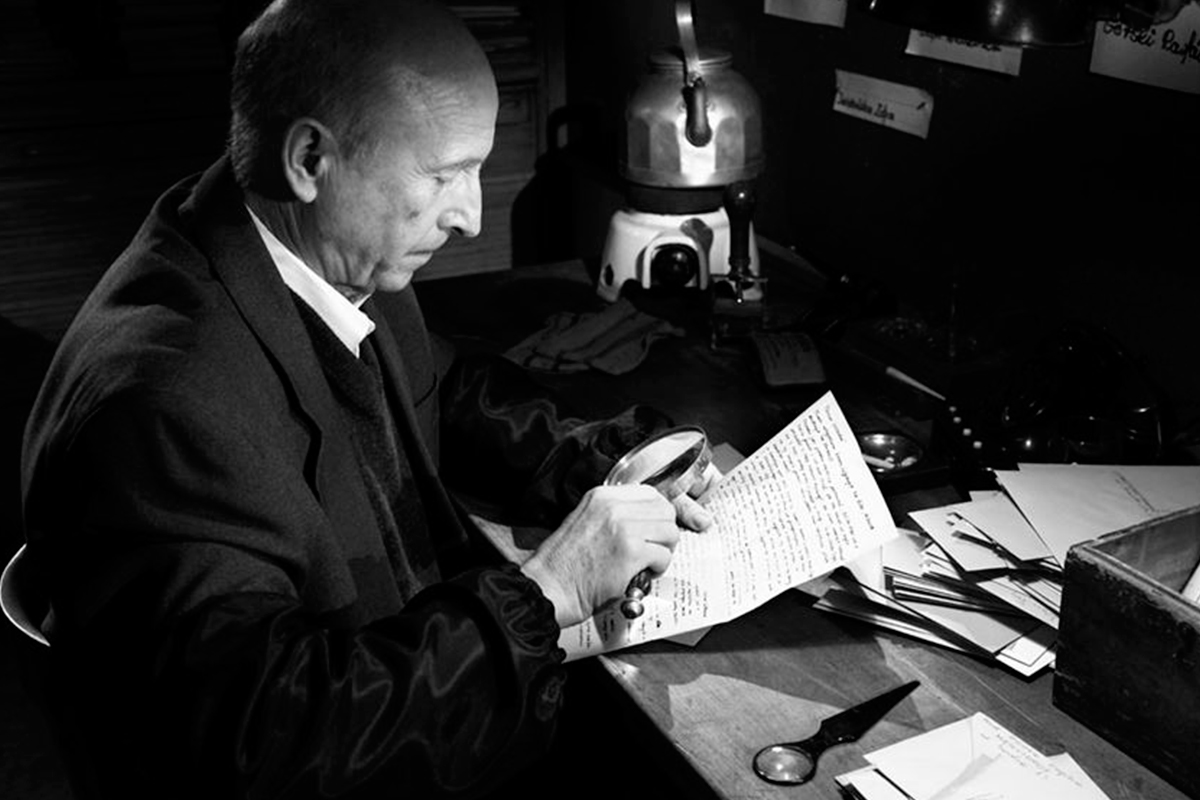
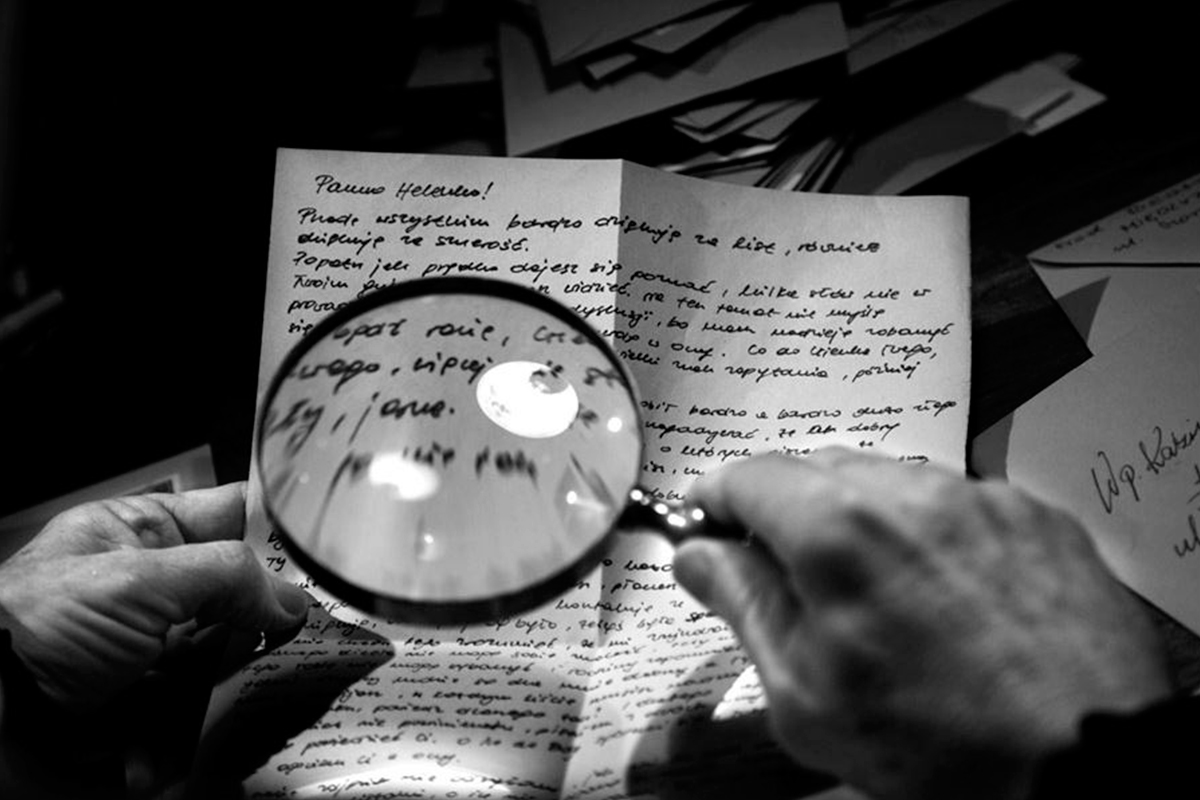


Кадры из фильма Мацея Дрыгаса «Чужие письма» 2010-го года
— Можно сказать, что новое российское документальное кино стало формой политического и социального высказывания. А что происходит в документальном кино в Польше, есть ли какие-то тенденции, которые вы замечаете?
— У нас в Польше абсолютно другая ситуация. Конечно, там сейчас непростая жизнь, потому что политическая стачка, происходящая между партией в правительстве и той, что в оппозиции, страшно разобщает народ. Люди, которые раньше делали что-то совместно, теперь не разговаривают друг с другом. Но это отражается больше на телевидении. Есть телевидение, имеющее публицистическую направленность и связанное с оппозицией. Грустно, что оно стало политизированным. Но так уж случилось. Что касается кино, то здесь цензуры нет. Единственно возможная цензура — это когда кто-то может подать в суд за оскорбление своих чувств.
Огромным толчком для развития был момент, когда удалось пропустить на рассмотрение парламента устав о кинематографе. Мы десять лет, еще с 90-х, собственными руками боролись за его принятие. На основе этого документа мы не пользуемся государственными деньгами, а имеем средства, которые нам должны отдавать дистрибьюторы от продажи билетов и рекламы. Иными словами, если люди ходят в кино, есть деньги на создание фильмов. И вдруг оказалось, что этих денег много.
Кардинально изменилась финансовая ситуация, когда стал работать Польский Институт Кино: помимо чиновников, которые там заведуют, мы, эксперты, читаем присланные заявки, пишем на них рецензии и решаем, на какие проекты выделить бюджет. Каждый год у сообщества интересуются, кого оно хочет видеть в комиссии документального, художественного кино и так далее. Самих комиссий существует много. Благодаря этому появилась прозрачность, потому что наши рецензии всегда можно прочитать. Помимо этого, мне больше не нужно благодарить какого-то чиновника и надеяться, что он даст деньги на фильм. В этом году я являюсь лидером одной из комиссий документального кино, и вы должны мне поверить, что на хорошие проекты просто выделяются деньги. Режиссеры чувствуют себя свободно.
Новые возможности открылись и для молодых режиссеров. Существуют специальные дебютантские программы — причем и для игрового, и для документального, и для анимации. Моим студентам намного легче входить в кино, чем нам когда-то. Сейчас в польском кино происходит явная смена поколений.
Вчера или позавчера я рассказывал молодым российским режиссерам, что очень важно в этой профессии быть отважным. Как только уходишь в сторону конформизма, ты сразу убиваешь себя как художника. Я видел это, когда учился во ВГИКе. Среди моих коллег были такие, кто говорил: «Знаешь, я снял эту ленту так, чтобы она прошла проверки, а потом закончу ВГИК и буду делать свои фильмы». Но это неправда. Если ты раз предал себя, потом уже очень тяжело вернуться к себе. На первых занятиях я всегда говорю своим студентам: «Бунтуйте против меня. Я не пришел сюда, чтобы сделать восемь своих копий. Давайте вступать в полемику, ломать, работать своим животом и душой». Если посмотреть в этом разрезе на кинематографическую среду в России, тут все очень непросто. Здесь есть немало конформизма, который я помню еще со вгиковских времен. Но в конечном счете история помнит только тех, кто был наиболее выразительным.
Когда мой сын интересовался рэпом, я любил слушать эту музыку вместе с ним. Польский рэп делают ребята с тяжелым прошлым, из невзрачных районов, где закрылись шахты и чьи родители остались без работы. Их песни — документальная правда и настоящий крик души. Иногда мне кажется, что такого рэпа не хватает в кино. Я не имею в виду публицистику в стиле «все плохо». Всегда интереснее, когда в фильме есть конфликт, и герой, находящийся в неоднозначной ситуации, привлекательнее сладких портретов.
— Вы предугадали мой следующий вопрос. Я хотела спросить, какие советы вы даете своим студентам, и какие задания они должны выполнить.
— Я могу добавить. Первая особенность нашей киношколы заключается в том, что у нас нет системы мастерских.
— То есть человек не учится у одного и того же преподавателя все годы обучения.
— Да. Каждый год они разные. У нас нет отдельного игрового и документального направления. Это значит, что студенты должны снять на одном курсе и документальный, и игровой фильм, что хорошо влияет на их развитие. Поскольку каждый год у них меняются и профессоры игрового, и документального кино, они встречаются с разными школами, и каждая из них имеет свой вкус. И если какой-то педагог будет токсично вести себя с кем-то из учеников, то это только на год. То же самое и для нас: если попадется токсичный студент, то только на время.
Я очень прошу своих учеников, чтобы они активно входили в повседневную жизнь, потому что нет ничего более плодотворного. Если стоишь в очереди или едешь в поезде, не смотри в экран телефона, а лучше поговори с людьми. Это фундамент для режиссера, из него можно создать даже научную фантастику.
— Что ценно для вас в работе в документальном кино?
— Я никогда — наверное, это страшно звучит — не думаю о зрителях: кто они и сколько их будет. Если предстоит проработать над фильмом четыре-пять лет, я задаю себе вопрос: насколько эта история открывает мне двери в другую жизнь? Это для меня принципиально. В этом смысле документалистика дает возможность новых путей и знакомит меня с людьми, а если фильм путешествует по миру, по фестивалям, то это дополнительный бонус.
— Два года назад вы начали писать книгу, и у вас за плечами сотни услышанных историй. Не было ли желания описать в книге опыт, который накопился за годы работы с документальным кино?
— У меня мечта — постепенно уходить из кино и начинать писать книги. Но не о себе и своем опыте, потому что я не могу представить, что сижу и весь год занимаюсь только собой. Раньше я делал документальные радиопьесы, мне это очень нравилось. Даже был момент, когда я преподавал радиодокументалистику. Я не учился радио, а просто применил весь свой киношный опыт. Это почти как делать фильмы для слепых. С другой стороны, я сотрудничаю с одним хорошим журналом в Польше, который выходит раз в несколько месяцев — «Картой». Он издавался подпольно еще при коммунизме, имеет историческую направленность и занимается дневниками, письмами.
Я каждый раз что-то отдаю редакции этого журнала. Недавно отдал пятьдесят пленок своих записей разговоров с космонавтами. У них получилось тридцать страниц текста на основе этого материала, и он будет главным в выпуске.
Что касается книги, то я ее почти закончил. Я исследовал документы и встречался с людьми в Баку: недалеко от него есть поселок Балаханы, где когда-то находилось большое нефтяное Эльдорадо. Братья Нобель и другие люди открывали там свои вышки, а потом через Балаханы прошли все эти истории — и пятый год, и семнадцатый. Все погорело. Сейчас остались заржавевшие башни, но некоторые все еще работают. Я обнаружил там интересный мир, и моя книга состоит из глубоких разговоров с разными людьми оттуда, а где-то рядом будет виднеться пейзаж после битвы.
Фото: Кирилл Михайлов; Polski Instytut Sztuki Filmowej, Drygas Production, Telewizja Polska
В рубрике «Артгид» редакция исследует молодое искусство регионов, рассказывает о местных художественных процессах, а также об их героях и художественных стратегиях. На этот раз героем рубрики стала художница Катерина Конюхова — ее работы можно увидеть на большинстве выставок локального искусства. Enter встретился с Катериной, чтобы поговорить о пластических экспериментах, классиках искусства и культурных институциях города.
Катерина Конюхова родилась в Казани. Окончила КГАСУ в 2008 году. В 2019-м у Конюховой прошла большая персональная выставка Golden Road на «Фабрике Алафузова». В этом проекте художница продолжает свои исследования в поле минималистского и абстрактного искусства. Персональные выставки Катерины Конюховой проходили также в мастерской Qullar, резиденции креативных индустрий «Штаб» и на других площадках. Член ТСХ РФ.

— В вашей семье есть художники? Как вы начали рисовать?
— Я одной из первых в нашей семье пошла в творческую профессию. Как почти все дети, с самого детства рисую и закончила художественную школу. Но именно учеба в институте помогла раскрыться, и я очень благодарна этому опыту. Неважно, в какой сфере ты создаешь идеи — сначала нужно просто научиться придумывать.
Мы учились шесть лет. Нам преподавали живопись, рисунок, скульптуру — действительно важные предметы. До пятого курса в программе была только ручная графика — эскизы, наброски. Еще до массового распространения ксерокса в наших учебных заведениях — как бы это ужасно ни звучало — существовала такая вещь, как калькирование. Сейчас студенты снимают копию, а мы на первых курсах приходили в библиотеку, брали кальку и обводили. Еще нас учили работать с объемно-пространственными композициями и малыми архитектурными формами. Очень хорошо помню, что на первом курсе рассказывали про композицию, ее динамику и статику. Как мы этому учились? Просто следовали совету преподавателей: «Садитесь и рисуйте, постарайтесь почувствовать».
После завершения института работала с интерьерами и графическим дизайном, а потом произошла счастливая случайность: мне подарили мольберт. Я решила попробовать писать маслом, и мне очень понравилось. Сначала писала классические сюжеты — улочки, пейзажи, архитектуру. Затем решила попробовать большие форматы — взяла холст метр на метр и создала первую серию — «Круги». И оказалось, это то, что надо. Потом пошли квадраты, полосы.
— Как устроена ваша мастерская?
— В моей мастерской идеальный порядок. Может быть, это связано с образованием, ведь нас учили мыслить структурно: все должно быть четко и на своих местах. Я работаю в перчатках, и если что-то накапает, тут же уберу. После этого оставляю стол чистым, краски — закрытыми. Доходит даже до того, что начинаю вытирать тюбики краски. Мне так проще думается, я не люблю бардак. Все отсканированные работы я храню в системе. Если заранее позаботиться о последующих этапах, — участии в конкурсах, сотрудничестве с галереями — целесообразно подписывать каждое произведение и складывать их в серии. Я не понимаю, что такое художественный беспорядок. Структурировать все процессы — обычная мировая практика для художника. Когда я делаю выставки, то всегда предоставляю полную развертку стен, расставляю полотна с учетом размера — автор должен чувствовать масштаб и хорошо понимать, как все будет выглядеть.
— Абстрактное искусство, несмотря на общее название, может быть совершенно разным. Какой стороне человеческой жизни посвящено ваше творчество?
— Художник постоянно впитывает множество образов, которые потом на подсознательном уровне могут проявиться в его работах. В моем случае важно включение зрителя, который может интерпретировать увиденную форму, опираясь на свои воспоминания и опыт. Конечно, я изучаю цвет и композицию, контрасты и нюансы — как все это вместе работает друг с другом, но именно зритель завершает произведение, и тут я согласна с Дюшаном, который говорит, что созерцатель искусства совершает половину дела. Все современное искусство должно восприниматься в контексте. От своего максимума за двадцатый век оно прошло путь до полного обнуления, если вспомнить произведения Малевича, и это, конечно, усложняет его интерпретацию.





Работы Катерины Конюховой в кафе «Тимьян»
— Несмотря на абстрактную форму, ваши работы отсылают к материальному миру — например, архитектурным элементам. Каково соотношение между фигуративным и абстрактным в ваших произведениях?
— С архитектурными ордерами у меня была только одна серия, созданная специально для итальянского конкурса. Он был посвящен теме соединения современного и традиционного. Больше я материальные образы не использовала. Но мне этот опыт понравился, и, наверное, буду возвращаться к нему. Хотя все остальные мои работы — это плоскостные фигуры.
Мне хочется, насколько это возможно, использовать большой формат, потому что за счет такого размера происходит погружение зрителя в произведение. Марк Ротко говорил, что работает с эмоциями, и рекомендовал подойти к картине ближе, окунуться в нее. А сейчас музеи привозят большие полотна и прочерчивают линии, за которые нельзя заходить — вот такие издержки высокой стоимости искусства. Для меня картина это то, на что можно смотреть издалека и вблизи, с разных ракурсов, рассматривать мазки и цвета.
Периодически случаются споры по поводу названий работ. Все считают, что их нужно как-то по-особенному называть, а мои вещи озаглавлены так — «Ромб желтый», «Круг красный», «Круг красный №2». Когда Малевич подписывает полотно, на котором изображен черный квадрат, «Черным супрематическим квадратом», является ли это реалистической живописью? Мне кажется, в некоторой степени — да.
— Как вы используете цвет?
— Расскажу на примере серии Black (2018). У многих, кто ее видел, возникали ассоциации с космосом, но за этими работами я не подразумевала космическое пространство. Это было исследование цвета, в ходе которого я добилась именно того соотношения контрастов и нюансов, к которому стремилась. При этом я вообще не использовала черную краску — оказалось, что у меня в палитре ее просто нет.
Я очень хочу сделать — по аналогии с «черной» серией — максимально светлую. Но меня пока выводит на яркие, контрастные цвета, например, красный с синим. Сопоставление интенсивных цветов очень завораживает. Еще важно сочетание глянцевости и матовости: скажем, красная масляная краска при высыхании становится плотной, а если добавить подтеков и лака, то это создает контраст поверхностей. Сначала ты продумываешь статичную композицию, а потом добавляешь эти следы, и они начинают жить своей жизнью. Соединяются два мира, один из которых под контролем, а в другом царит полный хаос.




Катерина Конюхова. Из серии Golden Road. 2019 год
— В каталоге ваших работ говорится о том, что вы работаете с чистотой плоских форм. Многие художники-модернисты (яркий пример — Татлин) проходили этот этап и затем выходили на объем. Как вы дальше видите поле своих пластических экспериментов?
— Очень многие приходят из классической живописи в абстракцию. Но иногда бывает и наоборот: недавно нашли работы авторства Пикассо, поздние вещи, довольно классические пейзажи. Он считается создателем кубизма и всю жизнь был смелым экспериментатором, а потом неожиданно вернулся к традиции.
— Почти как у Малевича, когда он написал в начале тридцатых автопортрет в ренессансном стиле.
— Да. Но я пока планирую продолжать работать с плоскими фигурами или архитектурными элементами вроде той серии с ордерами. Еще мне очень нравится писать полосы, которые сами по себе складываются в классический пейзаж.
— Какое определение можно дать слову «художник»?
— В XXI веке он должен быть и оратором, и куратором, и пиар-менеджером — одним словом, должен везде успевать. У Герхарда Рихтера есть работники, которые процеживают его краски, чтобы в них не осталось комочков. Конечно, это круто, и это уже совсем другой уровень. Начинающие художники, как мне кажется, должны включаться во все процессы, связанные с их работой. Сейчас фигура художника-затворника, который написал вещь и спрятался в уголочке, почти невозможна. В противном случае рядом с ним должен оказаться брат Тео (брат Винсента Ван Гога, — прим. Enter), который будет материально поддерживать и говорить: «Рисуй и ни о чем не волнуйся». А человеку, который делает грандиозные проекты, нужна команда. Известный пример — Ай Вэйвэй.
— Недавно у вас была совместная с the Alesha Art выставка (Golden Road, «Фабрика Алафузова»).
— Это был не совместный, а мой персональный проект. Когда у Алеши была выставка в «Смене» под названием «Они только жрут», он меня пригласил, и мы сделали с ним работу. Когда у меня открывалась выставка на «Фабрике», я пригласила его сделать совместную инсталляцию. Алеша — адекватный человек, который четко формулирует свои мысли, прекрасно выстраивает диалог и понимает, чего хочет. Чувствуется, что его художественное становление происходило не в России.
Тут надо добавить, что вылазки за пределы страны очень важны. Первые мои поездки на Венецианскую биеннале были настоящим культурным шоком. Это дает такую колоссальную базу, что необходимость ходить по музеям отпадает сама собой — если мы говорим об Италии — потому что там города сами по себе как музеи. Немногие институции России могут дать столько же, а в Казани таких и вовсе нет.


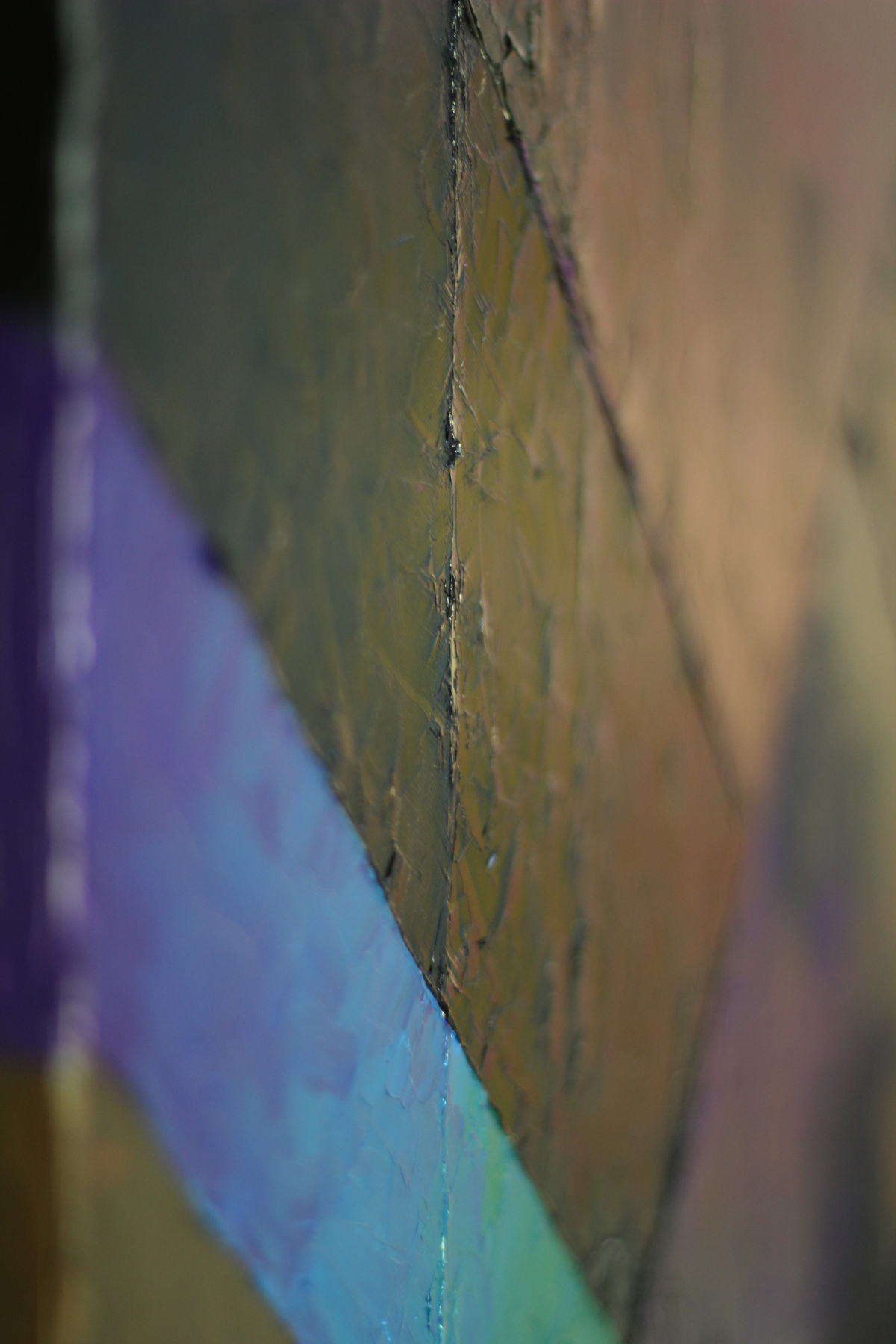
Катерина Конюхова. Из серии Black. 2018 год
— Что побуждает вас к работе, что вдохновляет и дает силы?
— Безусловно, важно знать историю искусств, но, с другой стороны, изучение работ, которые тебя вдохновляют — опасная вещь. Как в фильме «Ахиллес и Черепаха» Такеши Китано, помните? Можно смотреть, как другие авторы наносят мазки, но не стоит вдохновляться чужими работами. Например, Ван Гог видел в Париже импрессионистов и пуантилистов и начал двигаться в ту же сторону, пока брат не сказал ему: «Ты теряешь свой почерк». Поэтому я вдохновляюсь поездками, интерьерами, красивой мебелью, керамикой, одеждой и показами мод. Недавно я пересматривала один из последних показов Маккуина, и это был настоящий перформанс. В противном случае, если ты начнешь копаться в том, как устроено чужое искусство, то будет возникать постоянное ощущение, что кого-то копируешь.
В то же время всегда сложно быть новатором в искусстве — особенно женщине. Со временем история расставляет все на свои места, и теперь мы знаем, что идея тиражирования изображений принадлежит Яеи Кусаме, а не Уорхолу, но в шестидесятые женщину вообще не считали за художника.
— Вы ведете телеграм-канал с анонсами локальных мероприятий, связанных сискусством. А за кем из художников следите?
— Будет правильнее сказать, что я слежу не столько за конкретными художниками, сколько за выставками в Казани.
— А кто из классических художников производит на вас наибольшее впечатление?
— Наверное, у любого человека в разные периоды — разные любимые художники, когда приходишь в музей и говоришь: «Вот оно!» Первый такой раз в моей жизни произошел в момент встречи с Кандинским, но не с его абстракциями, а пейзажами. Я до сих пор считаю, что эти работы — просто фантастика, особенно вживую. У них нереальные цвета. И по его полотнам легко проследить, как он проходит путь из фигуративного искусства в беспредметное. Наверное, я и сама хочу прийти к минимализму, нюансному и спокойному. Но меня все время тянет на бешеные цвета — красный, синий, желтый — похоже, это Кандинский запал в душу своими пейзажами.
Еще одно большое впечатление — серия кувшинок Клода Моне. Очень важный момент: когда мы изучаем историю искусства, нам чаще всего не называют размер произведений. Когда я увидела его кувшинки два на два метра, то удивилась — не представляла, что они такого масштаба. «Кувшинки» потрясающи тем, что находятся на грани абстракции.


Катерина Конюхова. Из серии Order Black & White. 2018 год
— Продолжая разговор о сфере культуры, что вы можете сказать о локальном сообществе и институциях, какие изменения произошли за последние годы и какие преобразования еще необходимы городу?
— Казань очень сильно изменилась за последние годы. Слава богу, есть «Смена», которая шесть лет работает на наш город. Те же книжные фестивали дают очень многое. Хорошо, что открылась ГСИ и стала привозить хорошие выставки, например, AES+F. Это ставит Казань на новый культурный уровень. У нас есть «Хазинэ», «Эрмитаж», но это более классический вариант, хотя они очень стараются — проводят экскурсии с актерами, делают качественные лекции. Но когда выставка в музее открывается в четыре часа дня, возникает вопрос: на кого рассчитано это событие? Раньше, когда я публиковала в своем телеграм-канале анонс открытия, то даже добавляла смайлик рядом с фразой «Выставка открывается в 16:00». Вернисаж — это всегда тусовка, где все между собой общаются, разгуливая с бокалами, и прекрасно, когда он происходит в семь вечера: люди после работы пойдут не домой, а в галерею.
Нам не хватает пространства, похожего на «Винзавод», где в одном месте были бы сосредоточены галереи и мастерские. Есть близкая к этой идее «Фабрика Алафузова», но Казань не любит ездить далеко от центра. Существует Старо-Татарская слобода, из которой было бы хорошо сделать культурное место с мастерскими и лабораториями дизайнеров и архитекторов. И, кстати, принцип «хлеба и зрелищ» никто не отменял, поэтому я считаю очень удачным ходом открытие кофейни Divan в «Смене». Я прихожу на лекцию и знаю, что возьму кофе и поднимусь с ним наверх. В той же питерской «Эрарте» есть ресторан, и это нормально — люди хотят есть. С трудом представляю, как можно смотреть гигантский, на три подъезда музей в Кремле, где нет ни одного толкового кафе.
Было бы классно регулярно делать так, как было с выставкой Ивана Горшкова год назад, когда в одной точке проходит его мастер-класс, в другом — выставка, а в третьем, уже на улице, стоит его скульптура. По такому же принципу работает Венецианская биеннале — весь город покрыт сетью искусства. Еще я заметила, что на все открытия ходят одни и те же люди. Хотелось бы вовлекать новую аудиторию, и именно поэтому я начала вести свой канал. Мне очень нравится им заниматься. Таким образом я еще больше погружаюсь в происходящее.
— Есть ли у вас какие-то утопические проекты, которые по каким-то причинам пока не удалось реализовать?
— Я очень хочу перейти на еще больший формат живописи — три, четыре метра. Ко всему прочему, у меня есть опыт организации выставок, и этот процесс мне нравится, поэтому хотелось бы сделать групповой проект, в котором будут показаны разные виды искусства — живопись, видео, керамика и так далее. Продюсирование выставок я бы даже сравнила с написанием работы: во всех проектах я все делала самостоятельно — от подбора освещения до сплочения команды для реализации идеи. Сейчас я официально вхожу в Творческий союз художников, и надеюсь, что это поможет мне воплотить задумку. Когда ты один в поле, действовать гораздо сложнее.
Фото: Даниил Шведов; предоставлены Катериной Конюховой.
Проект ПТУ (Алина Изолента и Камиль Еа) из Казани нечасто можно услышать в родном городе: последнее их выступление состоялось больше полутора лет назад. За это время дуэт дал внушительное количество выступлений в Европе и Америке, а в конце июня выпустил пластинку Am I Who I Am. В июле ПТУ вернулись, чтобы выступить в пространстве Werk. Enter встретился с музыкантами и поговорил о новом альбоме, киберпанке, татарской музыке и природе искусства.

— С чем связаны ваши первые музыкальные воспоминания?
Камиль Еа: Мои первые воспоминания связаны с татарской музыкой и теми моментами, когда она физически меня окружала. Моя бабушка (Гульшат Зайнашева, — прим. Enter) была поэтом и драматургом, и благодаря ей в детстве я часто бывал в театре и концертных залах, бегал за сценой, смотрел выступления, часто оказывался на радио и телевидении. Есть еще одно воспоминание — впервые услышанная органная музыка. Оно кажется банальным, но что в этом такого?
Другое яркое впечатление — первый синтезатор, который подарила бабушка. Она купила сразу два: один остался ей, а другой был подарен мне, потому что я пошел в музыкальную школу. У бабушки дома было много музыкальных инструментов, и у нее часто гостили поэты и композиторы.
Алина Изолента: Я продолжу разговор о физическом погружении. Мои воспоминания тоже связаны с началом музыкальной школы, когда ты еще не умеешь играть и тебе сперва необходимо научиться держать скрипку. До сих пор помню вечер, когда я полтора часа стояла без скрипки, стараясь держать руку правильно. Мне было шесть лет, хотелось играть и бегать, но нужно было потерпеть, чтобы рука привыкла находиться в воздухе долго и не уставать. Как в Шаолине.
— Месяц назад вышел альбом Am I Who I Am. Вы рассказывали, что он о покинутом людьми футуристическом мире. Когда в вашей работе возник этот сюжет?
Алина: Киберпанк и в целом тема постапокалипсиса мне кажутся очень яркими, но последняя растиражирована, поэтому я делаю акцент на киберпанке. Каждый раз, когда я смотрела какой-нибудь фильм и так или иначе соприкасалась с такими сюжетами, — чаще всего визуально — мне нравилась их нуарная атмосфера. Хотя она мрачная и часто наполнена чувством одиночества, что-то в ней есть. Когда тебе долго нравится какой-то жанр, рано или поздно начинаешь думать, не попробовать ли что-нибудь с этим интересом сделать.
Если говорить о киберпанке в контексте альбома, то мы не сочинили ничего нового. Расцвет этого жанра пришелся на 80-90-е, и за это недолгое время возникло немало интересных сюжетов, включая тот, о котором мы говорим, — о мире без людей или почти без них. Машины в нем не могут остановиться, и нет никого, кто мог бы их отключить, потому что выжившие оторваны от былой цивилизации. Звучит очень странно. Представьте: что-то случилось, и мы с Камилем исчезли. Наши инструменты остались включенными и продолжили воспроизводить звуки, которые были на них записаны. Через какое-то время случится износ техники, машины начнут галлюцинировать и проигрывать музыку с искажениями. Они будут усиливаться, пока не превратятся в музыку покинутых машин. На альбоме Am I Who I Am есть места, где проявляется этот сюжет — особенно в последнем треке. Тем, кто любит фантастические истории и будет слушать нашу музыку, сюжет даст дополнительное пространство для размышлений.
Камиль: Постапокалипсис есть везде — в литературе, фильмах, компьютерных играх. Это просто любовь к жанру «все погибнет, и мир погрузится во тьму».
Алина: Апокалиптическая тема имеет древнюю традицию, просто пятьсот лет назад ее облекли, скажем, в библейские сюжеты, а сейчас говорят о роботах, машинах и вирусах. Мне кажется, в людях много инфантильности: они считают, что будут жить вечно. Это происходит, потому что мы воспринимаем себя с позиции главных, что, в общем, неплохо, но будет эффективнее, если мы станем осознаннее. Таким образом был задан вопрос, и у каждого будет свой ответ. Основной смысл скрывается в названии альбома: я точно тот, кто я есть?
Камиль: Или кем я буду, если отбросить весь исторический опыт и гуманистические концепции…
Алина: И все идеи о самом себе — что тогда от нас останется? Мы не пытались ответить на этот вопрос, но хотели его задать.
Камиль: Это риторический вопрос.
— А каким образом античные персонажи Кастор и Поллукс (на пластинке Am I Who I Am есть одноименный трек, — прим. Enter) вплетаются в историю про мир будущего?
Алина: Это довольно классический прием. Очень легко представить себе какой-нибудь сюжет в киберпанке, где главного или второстепенного героя будут звать, например, Платон. Это фантазия о тотально футуристичном мире, в котором уже нет никакого постмодерна и прошлого, а есть все сразу. Я представляю, что Кастор и Поллукс — роботы или машины, у которых пока еще отсутствует сознание. Это такие пробные модели. Или наоборот: у них очень развитый интеллект, они непрерывно заняты обработкой данных, обмениваются друг с другом информацией, выискивают баги и фиксируют их. Два киберфилософа, ведущих бесконечную беседу об эволюции машин.
— Композитор Штокхаузен говорил, что музыка повествует о незримом. А как вы описали бы язык ПТУ?
Алина: Я бы согласилась с Штокхаузеном. Музыка использует бессловесный язык. То, о чем я говорю, не подразумевает, что в ней нет слов — имеется в виду, что когда ее слушаешь, твой внутренний диалог временно прекращается, но мысли при этом не исчезают. Они продолжают свое движение, уходя в область образов и ощущений, ассоциативных сюжетов. Довольно часто, когда я сажусь за трек, на выходе хочется получить определенную атмосферу. Поводом может послужить какой-то микросюжет, например, прогулка ночью по пустым закоулкам города. Это не про эмоции — скорее, про состояние.
Я думаю, что люди сочиняют музыку по-разному. Некоторые говорят, что страдания подталкивают их к творчеству. Меня вот совершенно не подталкивают — они даже отвлекают, потому что самый сосредоточенный момент в этом процессе — тот, когда я вообще забываю о себе. Конечно, потом можно посмотреть на результат со стороны и, проанализировав, почувствовать радость или наоборот — решить, что в нем ничего особенного нет, и продолжить поиск дальше.
Камиль: Я хочу удивить и развлечь человека, который пришел на наше выступление. Хочу, чтобы он подумал: «Ого, что это такое? Я никогда такого не слышал». Мы создаем набор звуков, которые сами по себе мне кажутся очень необычными. Музыка состоит из частот — верхних, средних и нижних и базируется на сочетании нижних частот и ритма. У частот есть функциональное назначение.
Представим, что вместо музыки мы собираем машину. Автомобиль состоит из ходовой части — колес, двигателя, корпуса, и наш выглядел бы как в фильме «Безумный Макс» — агрессивный и вызывающий очень яркие ощущения. Эта машина может понравиться и одновременно не понравиться, потому что ты не знаешь, чего от нее ожидать. Хочется раздвигать рамки музыки, чтобы человек думал: «Ой, а так тоже можно было?»
Алина: Приведу в пример еще один автомобиль. Мы недавно смотрели фильм «Американские граффити». Это картина 73-го года об одном вечере из жизни подростков, которые только что закончили школу. Весь фильм они просто катаются по улицам. Помнишь, там у парня была такая желтая машина без капота? Она странная, но выглядит очень стильно. Получились какие-то ретро-примеры — и «Американские граффити», и «Безумный Макс» с его дизельпанком. Но мне совершенно не хочется ассоциировать свою музыку с ретро.
— Если продолжить разговор о технологиях, то одно из направлений их развития — технологизация человека — по сути, обещание его бессмертия. Какое отношение к этим тенденциям складывается у вас?
Алина: Мне кажется, бессмертие человека будет достигнуто не по причине того, что он превратится в робота, а благодаря исследованиям, связанным с его генами. Самое главное в человеке не тело, а сознание. Возможно, в будущем появится искусственный интеллект, который будет близким к нашему или даже в чем-то его превосходить, но останемся ли мы прежними? Это похоже на разговор о клонах, когда создали твою копию, но, возможно, это уже не ты.
Мы допускали различные версии в своем альбоме, и слушатель сам думает, как получилось, что мир стал таким. Моя теория такова: произошла какая-то случайная ошибка, и роботы сошли с ума. Вопрос о смерти — вечный.
— Между вашими первой и второй пластинкой прошло пять лет (Hard Week (2009) и Here Here (2014), — прим. Enter), и годы перед выходом Here Here вы называли тишиной. А какой период у вас сейчас, после того, как вышел третий альбом?
Алина: До Hard Week у нас было несколько альбомов, включая DIY-релизы, вышедшие миллион лет назад. А самый ранний не слышал никто, кроме нас и наших друзей. Для меня эти релизы тоже очень важны. Но «Тяжелая Неделя» — первый, выпущенный на стороннем лейбле, поэтому для всех он дебютный. Мы хорошо себя ощущаем: есть много работы, связанной с выходом альбома, а еще мы занимаемся новым материалом. Все очень динамично. Стараемся находиться в гармоничном состоянии, в котором много движения и остается время на сочинение музыки.
Камиль: Когда у музыканта выходит альбом, это всегда катарсис. Чтобы понять, что с нами происходит, нужен взгляд со стороны, но для этого прошло недостаточно времени. И, кстати, Here Here — не пластинка: он выходил только в цифре.
— Предыдущее ваше выступление в Казани было более полутора лет назад. Вы успеваете следить за тем, что происходит в городе?
Камиль: Конечно! Казань — родной город, и нам интересно все, что с ним связано независимо от того, где находимся. Мы следим за всем, что здесь происходит.
— Как вы отыграли в Werk и что можете рассказать об этом месте?
Камиль: Это пространство делает первые шаги. Werk — место силы, и через какое-то время оно заживет собственной жизнью. Я уверен, что Werk станет важной страницей в истории Казани. До его открытия в городе не было площадки с такой саунд-системой, а теперь есть возможность регулярно привозить самых разных артистов, обеспечивая их выступления всем необходимым.
Алина: Я отсутствовала в Казани дольше, чем Камиль. Очень многие места, которые появились в последние годы, с момента моего последнего приезда стали еще лучше. В Werk стоит хороший звук, и впечатление от площадки и самой вечеринки осталось позитивное. Мы разговаривали с основателями — они рассказывали о том, как дальше будут работать над звуком и акустикой пространства. Там и так все отлично, но ребята хотят сделать еще круче, и я думаю, это правильный подход. Я желаю, чтобы люди посещали это место. Хочется, чтобы оно жило долго.
Камиль: Здесь не нужны никакие сравнения с другими городами. Это пространство со временем еще раскроется. Мы давно знакомы с людьми, которые им управляют, и я очень рад, что все сложилось таким образом.
— У художника Джеймса Уистлера есть фраза: «Искусство случается само». Можете ли вы сказать, что музыка случается сама?
Алина: Мне бы хотелось поговорить с ним об этом.
Камиль: Я с ним согласен! Любой художник, независимо от того, занимается он музыкой или изобразительным искусством, должен оттачивать свое мастерство. То, насколько оно отточено, будет влиять на спонтанность момента, в котором возникает настоящее искусство.
Алина: Эта мысль прекрасна, но отражает только часть картины. Важно спросить, что здесь подразумевается под искусством. Мир сам по себе является им, или все-таки оно — отдельный пласт жизни, где люди создают миры? Само по себе искусство бывает очень разным, и вопрос, который я задала, остается актуальным. Творчество нуждается в восприятии. Художник является и создателем, и тем, кто искусство воспринимает. Но кроме него есть еще аудитория. Если мир искусства является миром сам по себе, независимо от того, есть ли смотрящий, — я соглашусь с этой мыслью. Но если учитывать, что у искусства есть зритель, тогда эта фраза является лишь частью ответа.
— Вы оба изучали музыку (Алина училась в классе скрипки, Камиль окончил школу им. Олега Лундстрема, — прим. Enter), затем стали делать вечеринки, а потом писать музыку. Похоже, сценарий, в котором вы оба занимаетесь чем-то другим, был невозможен?
Алина: Некоторые события жизни указывают на то, что другого сценария быть не могло. Будучи подростком, я говорила маме, что хочу бросить музыкальную школу, но все-таки ее окончила. Это был пубертатный бунт, когда ты рискуешь отказаться от того, что тебе интересно, если замечаешь хоть малейший намек на принуждение. Были и другие периоды — например, первые студенческие курсы я не занималась музыкой, но много ее слушала; впитывала кучу информации, но ничего не создавала. Тем не менее, тянулась к музыкальному творчеству и предпринимала определенные, порой спонтанные, шаги в этом направлении. Сейчас для меня очевидно, что именно мои действия сделали этот сценарий более вероятным.
Камиль: Я всегда думал, что лучше заниматься искусством в любом проявлении, чем не иметь его в своей жизни вообще. Я понял это, когда увидел в детстве, какие люди окружают мою бабушку — они все были связаны с этой сферой и отличались от обычных людей, живущих за пределами творческой кухни. Я бы в любом случае занимался искусством, и это мой выбор. Если не музыка, то что-то другое, что давало бы мне волшебное чувство принадлежности к искусству. Например, коллекционирование марок, чем я некоторое время, кстати, занимался. При этом внутри я всегда был лютым бунтарем.
Алина: Но ведь коллекционирование — это же не создание, а потребление.
Камиль: Вот тут сложно сказать.
Алина: В некотором смысле все это было неотвратимым. Будучи маленькой, я посещала не только музыкальную школу, но и большое количество других кружков. Играя с подругами, я все время пыталась что-то создавать.
Камиль: Не говорю, что я какой-то особенный и что кому-то дано, а кому-то — нет. Искусство появляется там, где есть навык и ежедневная кропотливая работа. Те, кто реализует себя в творчестве, — в первую очередь трудяги, а не некто, к кому боженька прикоснулся золотым перстом.
Алина: Из твоих слов получается, что искусство — огромный труд. Когда ты сильно чем-то увлечен, кажется, что это легко далось, но если оглянуться назад и посчитать, сколько часов потрачено и сколько мыслей передумано, то понимаешь, что все по-настоящему талантливые люди — трудяги. Что-то может даваться им легче, но они ставят себе большие задачи и пытаются перелезть через гигантские заборы.
— Как вы думаете, сдерживает ли музыкантов экономический аспект их деятельности?
Алина: Я думаю, что тут есть определенная поэтапность. Когда только начинаешь, у тебя нет ресурсов, и ты пишешь на том, что есть — у кого-то это ноутбук, у кого-то грувбокс. Свой сетап ты все равно постепенно нарастишь, хотя это и недешево. Тут такое дело: когда хочется что-то делать, то будешь стремиться к этому несмотря ни на что.
Камиль: Давайте сравним с ситуацией пятидесятилетней давности. Допустим, вам нужно сделать демо-запись на носителе. Сколько на это уходило усилий? Сейчас, если имеешь исправный смартфон, у тебя есть возможность создать примерно все что угодно. Даже установка программы не нужна — можно использовать онлайн-сервисы, для этого понадобится просто доступ к сети. Музыкой занимаются, потому что очень это любят и не могут ей не заниматься.
Алина: Тогда промежуток времени от возникновения идеи до похода в студию был более длинным, чем сейчас. А теперь можно делать заходы и с более скромным сетапом. Со временем настраиваешь свои привычки и поведение так, чтобы у тебя появился необходимый инструмент. Сегодня гораздо проще попробовать и понять, интересно ли тебе на самом деле, или это просто была классная идея, которая не захватит тебя на многие годы.
Фото: Женя Филатова
28 июня в концертном зале «Пирамида» при поддержке продюсерской команды Ozone Pro прошел концерт Infected Mushroom — одной из главных групп в танцевальной электронной музыке и пионеров псай-транса. Enter встретился с музыкантами и поговорил о сказках, израильской сцене, работе в тандеме и поисках нового звучания.
Амит Дувдевани и Эрез Айзен, основатели Infected Mushroom, имеют схожий опыт: оба стали играть в группах еще со школы, оба учились в классе по фортепиано. Дувдевани вспоминает, что первым живым концертом, который он увидел, было выступление известной израильской рок-группы Mashina, куда его привел старший брат. На момент знакомства с Айзеном в середине девяностых Амит увлекался трэш-металлом и только вернулся из Индии. Эрез сначала сочинял для фортепиано, а потом стал экспериментировать с компьютерными программами, оттачивая мастерство в своей DIY-студии в спальне.
Познакомившись по рекомендации общего друга, Дувдевани и Айзен обнаружили схожий интерес к психоделическим тенденциям, все больше проявлявшимся на израильской сцене. В результате в 1990-м родился альбом The Gathering, а сразу после него Classical Mushroom (2000), которым заинтересовался европейский, американский и японский рынок.

— Вы выстрелили как проект на волне интереса к транс-музыке, развивавшейся в Израиле в начале нулевых. После этого вы стали менять стиль, усложняя свою музыку.
Амит: После того, как мы выпустили первые три пластинки, которые ассоциируются с чистым псай-трансом, решили записать экспериментальный альбом под названием Converting Vegetarians (2003). Мы стали искать новое звучание, которое обращалось бы ко всему спектру электронной музыки, а не только к одному психоделик-трансу. Кстати, этот альбом поначалу не был воспринят восторженно, и только значительно позже стал считаться одним из наших главных релизов. Но затем мы записали IM The Supervisor (2004) и Vicious Delicious (2007), очень трансовые пластинки. Так что мы постоянно в движении и исследуем разные проявления звука.
Мировое восхождение Infected Mushroom пришлось на время подписания контракта с Coast II Coast entertainment, которая занимается хип-хопом и коммерческой электронной музыкой.
Амит: Менеджмент и лейблы, на которых записываемся — будь то Perfecto Пола Окенфолда, Dim Mak или Monstercat — не влияют на наши решения. Мы пишем так, как чувствуем. Мы свободные художники.
В тот же момент, в 2004-м году, группа переезжает из Хайфы в Лос-Анджелес и начинает выступать в составе пяти человек вместе с гитаристами Томом Каннингемом и Эрезом Нетцом и ударником Рогерио Жардимом. Во время последнего трека на концерте в Казани Амит представляет каждого участника и добавляет: «Они играют с нами уже чертовых пятнадцать лет!» У Infected Mushroom есть сложившаяся традиция: написанием песен занимаются дуэт Амита Дувдевани и Эреза Айзена.
Амит: Когда мне в голову приходит какая-то идея, я сразу хватаюсь за айфон и напеваю мелодию и записываю ее [напевает]. Затем я иду с ней в студию, мы с Эрезом переслушиваем заготовку и перекладываем ее на клавиши. Потом добавляем слои, ударные и бас, и, в общем-то, с этой основы и начинается то, что постепенно выстраивается в песню. Если мы работаем без такой заготовки, то в ход идет импровизация с ударными и басом, которая потом перерастает в черновую версию трека. Мы всегда сочиняем музыку в тандеме с Эрезом, дополняя друг друга.
На вопрос, когда Амит и Эрез поняли, что занятие музыкой стало важной частью их жизни, Амит отвечает: «После альбома Classical Mushroom (2000), когда мы стали давать по сотне концертов в год. Меня в тот момент отчислили из колледжа, потому что я там так и не появился. Тогда я понял, что все очень серьезно!»
Infected Mushroom играют «очень быстрые композиции с триповыми механическими и органическими звуками и психоделической атмосферой — музыкальный аналог ЛСД». Все это подается под соусом непробиваемой радости — остается только удивляться тому, с каким постоянством она генерируется.
За двадцать с небольшим лет группа выпустила двенадцать альбомов. Последний — The Head of Nasa and the 2 Amish Boys (2018) — получил название благодаря локальной шутке: «руководителем НАСА» прозвали одного из членов тур-команды Infected Mushroom. Мем разросся до целой научно-фантастической истории и стал основной идеей альбома. «Это пластинка о космосе. Остальное мы оставим на волю фантазии слушателя», — говорят участники группы.
Сейчас звукозаписывающие студии носят более мобильный характер, чем двадцать лет назад, когда IM только начинали. Но как и тогда, они продолжают писать музыку вдали от концертной шумихи.
Эрез: Чаще всего мы записываем музыку в студии дома. Нам никогда не удается довести ее до ума в дороге.
Амит: Конечно, мы прорабатываем идеи во время турне и даже возим с собой некоторые студийные инструменты, но для того, чтобы закончить трек, нам необходимо вернуться в студию, в которой созданы все условия для комфортной записи.

— Когда вы пишете музыку, вы работаете с партитурой, или же больше с сэмплами, записанными звуками?
Амит: Мы используем готовые сэмплы только в записи ударных. Для всего остального у нас всегда есть основа — мелодия — и она автоматически прописывается в виде партитуры.
Амит и Эрез называют Лос-Анджелес местом, которое когда-то произвело на них настолько сильное впечатление, что теперь они являются гражданами Соединенных Штатов.
— Расскажите про ваш переезд. Он связан с желанием находиться в месте с более развитой музыкальной инфраструктурой?
Амит: Да. Кстати, когда мы только переехали в Лос-Анджелес, он еще не был таким большим, как сегодня. Но сейчас, действительно, этот город представляет собой самую крупную музыкальную площадку в мире. Причем это касается абсолютно всех жанров, будь то электроника, рок или поп. Также многие производители из игровой, теле- и киноиндустрии переезжают сюда. Здесь очень легко создавать что-то в коллаборации, вокруг много продюсеров, и у всех постоянно рождается масса идей. Нам приятно находиться и делать музыку в Лос-Анджелесе. По сравнению с ним Тель-Авив гораздо более расслабленный город.
В разговоре о природе своего звучания Infected Mushroom вспоминают о мифологии. Культура описывает более чем понятную связь между психоделической музыкой и выдуманными мирами: и то и другое подразумевает путешествие, трип.
— А есть ли у вас любимые мифы и сказки или их герои?
Амит: Их очень много! Дело в том, что в детстве я сильно увлекался научной фантастикой и фэнтези. Одно из моих любимых — «Бесконечная история» (фильм 1984 года, поставленный по одноименной повести немецкого писателя Михаэля Энде, — прим. Enter). Я читал книгу и смотрел кино, снятое на основе этой повести.
Сюжет рассказывает о маленьком мальчике Бастиане, который находит в одной особенной книге источник для творческих сил и строит новую Фантазию. Это довольно хорошая метафора для описания того, какой эффект может создавать музыка.
— Продолжим тему сказок. Обложки ваших альбомов отсылают к некоторым сказочным сюжетам. Например, на обложке Return to the Sauce (2017), кажется, изображен Мэрлин.
— Это не совсем Мэрлин. Кстати, картинку нарисовал один талантливый русский художник, который работает под псевдонимом fear-sAs.
— Как его зовут?
— Сергей. Фамилию я не помню, потому что мы общались через инстаграм (Сергей Свистунов, иллюстратор, художник компьютерных игр, в частности, Mortal Combat X, — прим. Enter). Мы работали с ним еще над одной обложкой — для Friends on Mushrooms (2015), где он изобразил дикобраза с огромными иголками. Что же касается Return to the Sauce, то название пластинки — это игра слов (название созвучно английскому return to the source — «возвращение к истокам», потому что именно в этом релизе музыканты вернулись к своему раннему, трансовому звучанию, — прим. Enter). И иллюстрация Сергея это очень хорошо передает.
Нам гораздо интереснее каждый раз привлекать разных художников, но иногда получается так, как с fear-sAs, когда сотрудничество хочется продлить. Все наши обложки разные, и тем не менее в визуальном плане укладываются в некую линию.

Обложка альбома Friends on Mushrooms (2015), созданная fear-sAs
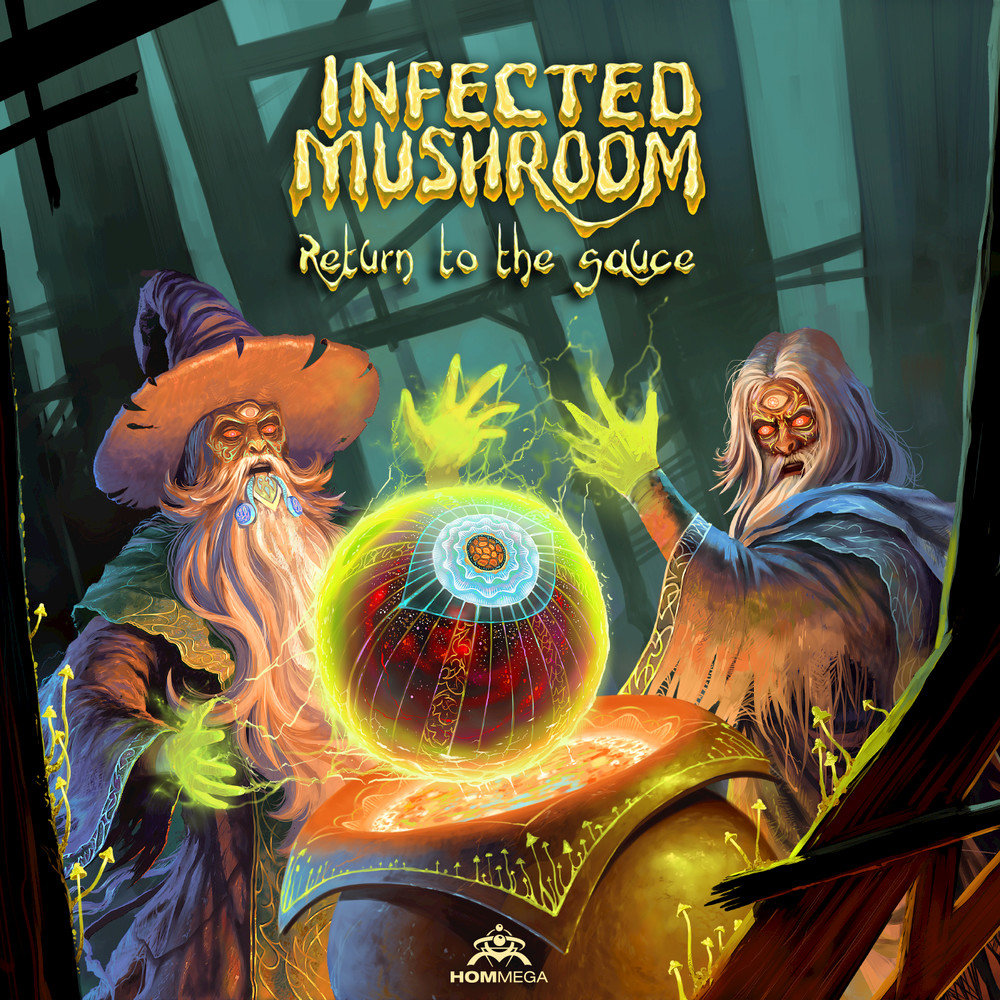
Обложка альбома Return to the Sauce (2017), созданная fear-sAs
Как и Kraftwerk в свое время, Infected Mushroom разрабатывают собственные «инструменты», так называемые Infected Plugins (модули, подключаемые к программам для сведения или мастеринга и расширяющие их возможности, — прим. Enter).
— Насколько вы участвуете в процессе разработок в техническом плане? Или этим занимается отдельная команда?
Амит: Да, этим занимается отдельная команда.
Эрез: Все началось с того, что, разрабатывая в студии новые «звучки», мы поняли, что это отнимает слишком много времени. Поэтому мы стали искать решение проблемы. Привлекли к этому специалистов и получили результат, который нас очень устраивает.
— Что сегодня происходит в Израиле с электронной сценой после того, как интерес к трансу чуть уменьшился?
Амит: Интерес действительно несколько ослабился, но это, скорее, касается ситуации двух-трехлетней давности. Сейчас я, напротив, наблюдаю расцвет израильской сцены, когда группы вроде Vini Vici поднимают транс-музыку на новый уровень. Если говорить об андеграундной сцене, то она развивается со свойственной ей спецификой, но тоже заметно растет. И однозначно можно говорить о новом поколении транса.
— Пару дней назад вышел альбом Тома Йорка Anima. Вы уже успели его послушать? Кто вообще из мира музыки вам близок?
Амит: Пока не успели. Когда мы находимся в турне, то в дороге чаще всего слушаем радио. Мы фанаты рока, хэви-метала и чилаута. Еще слушаем много транса — знакомые музыканты присылают свой материал, чтобы узнать наше мнение.
— Помимо «инфицированного гриба», какой еще фразой можно описать вашу музыку?
Амит: Наверное, потрясающая! Но лучше так: бесконечная история [смеется].